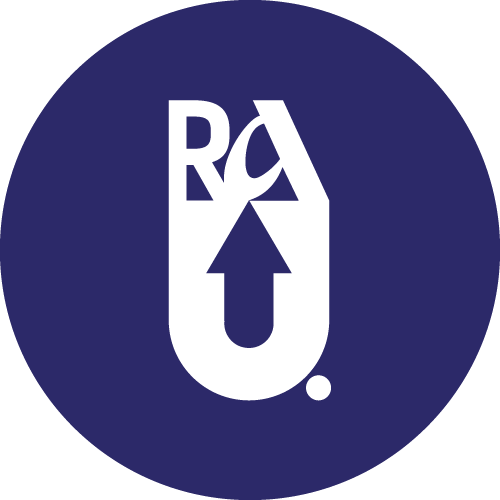ABSTRACTS
First International Conference
«HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN IRAN AND THE CAUCASUS»
26-27 May,2018
Yerevan, Armenia
Institute of Oriental Studies,
Russian-Armenia State University
in cooperation with the University of Guilan (Rasht, Iran)
К вопросу о взаимоотношениях Джаро-Белоканских союзов общин и Кахетинского царства в нач. XVIII в.
Рамазан Султанович Абдулмажидов,
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН
В конце XVII в. южные склоны Главного Кавказского хребта и прилегающее к ней левобережье Алазанской долины стали центром формирования нового государственного образования, которое в русских источниках стало известно, как «Джарская республика». Исторически данная территория, известная среди населения Нагорного Дагестана как Цор (ЦIор), являлась регионом проживания закавказских аварцев, своеобразным фронтиром для него. Следует также отметить, что под влиянием «Джарской республики» в этот период находился и ряд горных аварских обществ Дагестана, с которыми джарцев связывали не только общие политические и экономические интересы, но и кровнородственные узы. Они обеспечивали джарцам надёжный тыл, что было крайне важно в борьбе с региональными державами. Горцы Юго-Западного Дагестана активно участвовали практически во всех военных предприятиях джарцев. Кроме того, тесные союзнические отношения «Джарская республика» установила и с Аварским нуцальством.
В период становления «Джарской республики» в Южном Кавказе значительно усилилось влияние сефевидского Ирана. Завоевания шаха Аббаса I привели к утрате политического суверенитета местными феодальными владениями, попавшими в полную зависимость от иранского шаха. Особенно сильным это влияние было в Восточной Грузии, правители которой нередко воспитывались при шахском дворе и принимали ислам. И появление в регионе независимого политического образования противоречило интересам, как кахетинской знати, так и их сюзерена. Вследствие этого, с их стороны неоднократно предпринимались попытки ликвидировать зарождавшееся в Закавказье аварское государственное образование. Еще в 1695 г. против него был предпринят поход кахетинских феодалов, однако их войско было разбито объединенными силами Джаро-Белоканских обществ и пришедших к ним на помощь аварцев из Нагорного Дагестана
В началеXVIII в. кахетинские цари, проводили активную политику по восстановлению своего политического и экономического влияния в регионе. Пытаясь восстановить край после разорительного похода шаха Аббаса в начале ХVII в., они стали активно переселять в Кахети жителей центральной Грузии – Картли. В 1703 г. иранский шах сменил прежнего наместника в Кахети на Давида (Имамкули-хана) – 25-летнего представителя грузинского царского дома, принявшего ислам и воспитывавшегося при шахском дворе. Его жена также была мусульманкой и принадлежала к «фамилии шамхалов» Газикумуха. Надобно полагать, этим назначением Сефевиды стремились снизить влияние Джарской республики в регионе и получить в союзники правителей одного из феодальных владений Дагестана.
Вместе с тем, одним из важнейших факторов в социально-политической жизни народов Восточного Кавказа на рубеже XVII-XVIII вв. стали внутриконфессиональные противоречия местных мусульманских народов. Один из последних представителей династии Сефевидов Султан-Хусайн (1694–1722 гг.) развернул жестокие репрессии против суннитского населения в регионе. Такая политика вызвала всеобщее раздражение и противодействие у суннитского населения Восточного Кавказа. Одним из наиболее активных центров противостояния шиитской агрессии стала «Джарская республика».
В 1706 г. кахетинские феодалы предприняли новый поход против Джаро-Белокан, который также окончился поражением. Через два года Имамкули-хан поначалу «успокоил чарцев, и обещали они платить дань», однако, как видно из последовавших событий, обе стороны не собирались выполнять достигнутые договоренности. Тогда, кахетинский царь, собрав войска со всей Кахетии, и присоединив к ним тушин, пшавов и хевсур, перейдя Алазани, атаковал джаро-белоканцев, засевших на левой стороне речки Банди-ор. Джарцы, предприняв смелый маневр, сами напали на лагерь Имамкули-хана, и разбили его войско. После этого тяжелого поражения, Имамкули-хан вынужден был перенести свою ставку из крепости Карагаджи, расположенной на правом берегу Алазани в город Телави.
Вахушти Багратиони сообщает, что Имамкули-хан с 1710 до 1715 г. находился в Иране, оставив вместо себя родного брата Теймураза. В 1714 г. состоялись несколько стычек джарцев с картлийскими и кахетинскими отрядами на правом берегу Алазани, в исторической области Кизики, в которых последние потерпели поражения.
Таким образом, в начале XVIII в. политическое влияние Джарской республики значительно выросло во всем Закавказье. Ее активная внешнеполитическая деятельность привела к тому, что основные центры сосредоточения сефевидских гарнизонов на территории западной части современной Азербайджанской Республики были разрушены. Джарцы стали играть важную роль в экономической и политической жизни региона, нередко за помощью к ним обращались правители Османской Турции и сефевидского Ирана.
Тахмасп-кули-хан Афшар (Надир-шах) и закавказские аварцы
Т.М. Айтберов, А.И. Омаров
-
Закавкаские аварцы (ниже ЗА) населяют территорию известную как Закатальский округ. К концу XVII в. она входила в две иранские провинции: а) в Ширван (в статусе султанства Елису), где аваризм сохранялся практически только в военно-политических кругах; б) в Кахетию (в статусе Джарского общинного объединения), где аваризм процветал. В началеXVIII в. Джар превратился в республику, причем совершенно независимую от кахетинцев.
-
Начало контактов между иранской военно-административной машиной, которой руководил тогда Надир (Тахмасп-кули-хан Афшар), и ЗА относится к лету 1734 г. Османский правитель Ширвана задумал было вовлечь ЗА в войну с Ираном, но особого успеха не обрел.
-
Первое реальное вооруженное столкновение между частью армии Надира и ЗА произошли в ноябре 1734 г. Иранское войско, действуя при поддержке Елису, сумело тогда добиться тактического успеха, но в центр территории ЗА вступить не решилось. Мало того, в январе 1735 г. ЗА напали на военный лагерь иранцев, но последние – под командованием Мухаммад-кули-хана, правителя Ширвана, - сумели отразить их, обрести тактический успех и получить от ЗА заложников. В связи с недоразумениями, возникшими затем с обеих сторон, дело закончилось, зимой в 1735 г., крупным сражением, которое закончилось тогда, в пользу иранцев – ЗА отступили в горы. Мухаммад-кули-хан Ширванский, при этом, подверг территорию ЗА тотальному разгрому.
-
В конце 1735 г., когда русские войска ушли из Прикаспия, в центр земель ЗА вошло иранское войско, - как считали аварцы, - во главе с самим Надиром Афшаром. Все ЗА отступили в горы, но затем их мужчины вернулись, чтобы воевать. Они перебили иранский отряд Баба-хана. После этого Надир отступил и, не добившись ничего, пошел в направлении Ширвана, убив тогда: 4 старухи, 3 стариков, и уведя с собой 7 молодых женщин.
-
В 1737 г., когда Надир-шах воевал в Афганистане, отряд ЗАпринял участие в разорении окрестностей Тбилиси. Осенью 1738 г. разгромили ЗА армию Ибрахим-хана. Ибрахим-хан, - брат шаха Ирана - попавший в аварский плен, был казнен, а также были изгнаны иранские войска из северо-западной части современной АР, за исключением некоторых особо хорошо укрепленных мест.
-
Весной 1739 г. войска ЗА, имея артиллерию, участвовали в осаде Шекинского укрепления, где засели иранцы. Это при том, что елисуйцы, элита которых говорила по-аварски, стояли тогда на проиранских позициях. Затем войско ЗА отступило оттуда – в связи с появлением войска, во главе которого стоял Сафи-хан Багаири (?). В том же году, после ухода в Кубинские пределы Сафи-хана, являвшегося полководцем Надир-шаха, войско ЗА подвергло репрессиям население аварозяычного Елису.
-
В начале 1740 г. часть войска ЗА совершила вторжение в окрестности Тбилиси, где имела соприкосновение с иранским полководцем Ханджал-ханом. Затем эти ЗА, в начале 1740 г., имели столкновение с войском иранского полководца Мухаммадали-хана, что произошло в пределах Казаха, на возвышенных территориях которого жили «армяне». Преимущество получил тогда указанный назначенец Надир-шаха, хотя людей он потерял, якобы, в разы больше.
-
Весной 1741 г. в центр земель ЗА пришли такие полководцы Надир-шаха, как Мухаммадали-хан и Кани-хан Кандагарский. Это войско затратило на разгром ЗА – 15 дней, страна подвергнута была тотальному разорению.
-
Во время похода Надир-шаха в Дагестан в 1741 г., ЗА совершали нападения на иранские военные лагеря. В октябре 1741 г. ЗА вернулись в родные места. С Надир-шахом был заключен ЗА «мир», на условии представления ему 19 заложников.
-
В 1743 г., в связи с началом войны, из Стамбула поступило письмо на имя ЗАс призывом убивать иранских шиитов, а в 1744 г. выделили оттуда деньги в сумме не менее 30 киса. В результате «мир» заключенный между Надир-шахом и ЗАбыл нарушен, хотя деньги по адресу так и не дошли, и, начались аварские нападения на иранские (?) гарнизоны, базировавшиеся в Кахетии.
-
К весне 1745 г., в условиях прибытия, возобновлен был «мир» между Надир-шахом и ЗА. Теперь «главари» ЗА стали ездить к Надир-шаху, в его Муганский военный лагерь.
-
Таким образом, ЗАпредставляя из себя заметную военную силу, играли определенную роль в кавказской политике Ирана XVIII века.
Когда была построена Ереванская крепость на берегу реки Раздан? (591 н.э. ?)
Алексан Акопович Акопян
Институт востоковедения НАН РА
Новый сводный анализ имеющегося источниковедческого материала показывает, что Ереванская крепость на берегу реки Раздан, вероятнее всего, была построена после 2-го раздела Армении между Византийской империей и Сасанидским Ираном в 591 г. По свидетельству армянского историка VII в. Себиоса, новая граница между двумя державами проходила, в частности, по реке Раздан, а сведения халкедонитского источника “Наррацио” (VIII в.) указывают и на границу по реке Азат. Понятно, что данный пограничный отрезок был проведён по линии границы между двумя кантонами (гаварами) древнеармянской провинции Айрарат – Котайк (на севере) и Остан hАйоц (на юге). Учитывая, что по геологическим материалам древнее русло левого притока Раздана реки Гетар проходила примерно по центру современного Еревана и впадала в Раздан в районе моста Победы, можно заключить, что именно по этой реке и проходила граница Остан hАйоца с Котайком, а следовательно и новая граница между Византией и Сасанидами.
Как при 1-ом, так и при 2-ом разделе Армении две державы строили друг против друга крепости, следы которых удаётся выявить в целом ряде мест (Дара – Нисибин, Китаризон – Афум, Кайцон – Кайеан и др.). Такая работа приводит к заключению, что в 591 г. по приказу царя Хосрова II Сасанида на южном берегу реки Гетар, у её впадения в Раздан, была построена внушительная крепость (Ереванская), а к северу от неё, на высоте холма Конд (Козерн) свою крепость построили и византийцы. Местность крепости Сасанидов на высоком берегу Раздана несомненно составляла часть общинных земель города Эребуни (Ереван) в гаваре Остан hАйоц, с урартской крепостью на расстоянии 4-х км. Поэтому, естественно, то же название перешло и на новую крепость, а население Эребуни было достаточно организованно переселено ближе к последней.
Византийская же крепость на холме Конда было вскоре (в 610-612 гг.) разрушено войсками Хосрова II (в составе которых были и армянские отряды во главе с марзпаном Вркана-Гиркании Смбатом Багратуни Шумом), начавшего большую и вначале весьма успешную войну против императора Ираклия. По всей видимости, от Кондской крепости сохранилась башня (возможно, и основания части крепостных стен), которую красочно описал французский путешественник 2-й пол. ХVII в. Ж. Шарден, назвав её “античной”. Она разрушилась во время большого землетрясения 1679 г., но можно предположить, что на её основаниях восстанавливающая Ереван администрация Сефевидов построила мечеть Тапабаши. После вышеотмеченных успехов Сасанидов над Империей территория Конда вошла в состав города Ереван, с центром уже на берегу реки Гетар. Но сама эта река была отведена (в оросительных целях) от центра в сторону холмов Норка-Мараша и доведена до русла речки Джрвеж.
Письмо дагестанского правителя Тучалава иранскому шаху Аббасу I Великому (1571-1629)
Патимат Магомедовна Алибекова, Шахбан Магомедович Хапизов
Отдел литературы, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН
Отдел этнографии, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН
В ходе археографической экспедиции в сентябре 2017 г., на территории Хунзахского района РД, в частном собрании нам удалось выявить рукопись, принадлежавшую Шабан-кади ал-Убуди ал-Авари (1608-1667). Он являлся одним из выдающихся ученых средневекового Дагестана, а также кадием Аварского нуцальства. Внутри рукописи были обнаружены несколько десятков писем, вложенных в нее или приклеенных к ее листам. Среди них оказалось и несколько ценных писем XVII в. на персидском языке, адресованных аварским нуцалам или отправленных ими на имя шахов Ирана или их наместников на Кавказе. Одним из первых мы решили ввести в научный оборот показавшееся нам одним из самых ценных писем, в котором адресатом указан наиболее выдающийся представитель династии Сефевидов – шах Аббас I Великий (1571-1629), а отправителем – влиятельный дагестанский правитель Тучалав, многие детали биографии которого остаются пока неизвестными.
В Дагестане на рубеже XVI-XVII вв. известны два правителя под именем Тучалав и пока нам сложно с уверенностью сказать, кто именно являлся отправителем письма. Первый Тучалав упоминается в конце XVI в. Согласно османским источникам, 16 октября 1578 г. наместник султана Османской империи на Восточном Кавказе Лала-Мустафа паша, перед возвращением на зимовку в Эрзурум, встретился в своем лагере близ Шеки, с молодым аварским правителем по имени Тучалав (AvarHanTucalav). От имени султана, за сдерживание экспансии Сефевидов, Лала-мустафа выделил аварскому нуцалу санджак Ахты. Второй Тучалав родился около 1600 г. в семье газикумухского «князя» Алибека, поскольку упоминается в 1614 г. в качестве мальчика, отданного в качестве заложника-аманата русским властям в Терский городок. Он фигурирует в русских архивных источниках в течение 1614-1635 гг.
Данное письмо является копией письма, отправленного на имя шаха Аббаса I, сохраненной для нужд канцелярии этого правителя. В нем Тучалав выражает верноподданические чувства по отношению к правителю Ирана (шах Аббас правил в 1587-1629 гг.), которого он называет «гарантом государства, могуществом великой страны» и приводит в его отношении множество сложно переводимых и высокопарных эпитетов, соответствующих духу восточной дипломатической переписки. После этого, Тучалав приступает к изложению сути вопроса, а именно нескольких вопросов, по которым он обращается к шаху.
Во-первых, он докладывает, что в соответствии с поручением Аббаса I, он занимался делами некоего «господина Юсуфа, который находился в Черкесии». Судя, по всему, Юсуфа к тому времени в живых уже не было, поскольку Тучалав должен был урегулировать его дела и привести семью к представителям шаха Аббаса I. Под «господином Юсуфом», возможно, подразумевается Юсуф-хан, назначенный в 1610 г. наместником Ширвана и убитый в 1625 г.
Во-вторых, во время исполнения этого поручения Тучалав получил сообщение от своего сына (его имя неизвестно), который передает содержание какого-то письма. В нем Тучалаву приписывается желание установить союзнические отношения с Крымским ханством и с их помощью вытеснить иранцев из Дагестана. Тучалав опровергает эти сведения, а с Османской империей («румийцами») и их вассалом – Крымским ханством, по его словам они «стали врагами до Судного дня». В качестве своего союзника Тучалав упоминает шамхала Ильдар-хана (ум. 1635/36), который в 1614 г. отдал замуж за шаха Аббаса I свою сестру и стал его союзником.
В-третьих, Тучалав информирует шаха Аббаса I о ситуации на Восточном Кавказе и связях эндиреевского правителя Султан-Махмуда с крымским ханом, имя которого не называется. Целью действий Султан-Махмуда называется сбор войска в Крыме и Черкесии для искоренения влияния иранцев из Дагестана вплоть до Дербента, а также вытеснения их вассала – Ильдар-хана из Тарков.
В-четвертых, Тучалав передает в своем письме краткое содержание письма Султан-Махмуда (адресат неизвестен). Согласно нему, крымский хан узнал о предоставлении «области Кумух» со стороны Ильдар-хана иранцам («кызылбашам») и, что они строят крепости в равнинном Дагестане вплоть до Терека на севере. В результате этих действий Османская империя и Крымское ханство, союзником которых выступает Султан-Махмуд, окажется отрезанным от Восточного Кавказа, где «все будет подчинено кызылбашам и шаху Аббасу». Султан-Махмуд ставит целью если не полное вытеснение из Дагестана иранцев, то хотя бы «уничтожение» Ильдар-хана и прочих вассалов шаха Аббаса I в Дагестане.
В-пятых, согласно Тучалаву, крымский хан и Султан-Махмуд перенесли сроки наступления и до поры до времени последний постарается войти в доверие шаха Аббаса I путем посылки военного отряда во главе с одним из его сыновей на службу к иранскому правителю.
В конце письма Тучалав опять же просит не сомневаться в своей преданности шаха Аббаса I и сообщает, что прочие подробности ему сообщит его «служивый по имени Мухаммад», который и должен был доставить это письмо.
Армения, Иран: диффузия культур
Арсен Аракелян
Российско-Армянский Университет, Ереван, Армения
Если на мараморный стол поставить серебряный кувшин и ждать достаточно долго, то наступит время, когда кувшин невозможно станет отделить ор столешницы. Потому что произойдёт взаимное проникновение молекул мрамора и серебра, диффузия различных веществ, а это универсальный закон материального мира. В несколько ином, более иррациональном воплощении, и в духовном мире наблюдается также культур, волею исторических судеб вошедших в соприкосновение. Самый важный фактор и необходимое условие для этого явления – это время.
Что касается времени соприкосновения армянской и иранской культур, проницающих кажущиеся обитые бычьими шкурами щиты политических, военных, религиозно-культовых противостояний на протяжении очень долгих тысячелетий, то можно с уверенностью сказать – невозможно так долго жить рядом и не подвергнуться взаимному проникновению во всех сферах человеческого бытия. Редко можно найти такую стабильное долголетие непростых, часто кровопролитных отношений, такое противоречивое и взаимополезное соседство в политической истории мира. Каждый из нас, народов Ирана и Армении, живёт своей жизнью и просто уже не замечает, насколько мы приросли друг к другу в пластах и народного творчества, ремёсел, быта, морально-этических параметров языка, физического облика и исторических завихрениях старины далёкой. Невозможно даже пробовать изъять из армянской истории “персидский след”, в противном случае могут случиться весьма неожиданная коррекция вектора развития армянской духовности и культуры.
В свете сказанного, с полной уверенностью можем утверждать, что взаимное влияние армянского и иранского кинематографа не может не иметь место по определению. Но искать общноть необходимо не в поверхностных слоях восприятия, а в глубоких нишах исторической и культурной памяти обоих народов.
Этому полезному и благодарному делу и будет посвящена наша статья “Армения, Иран: диффузия культур”.
Образование Азербайджанской Республики
Взаимодействия и проблемы
(1918- 1920 гг.)
Хусейн Ахмади
Доктор исторических наук, доцент в исламском университете Азад, филиал Шахр-э Реза
Уставшие от 80- летнего господства русских народы Арана и Ширвана, с образованием движения за Конституцию в Иране, стремились использовать это движение против русского культурно- политического господства, но поражение иранской Конституции отвело некоторых из этих интеллектуалов в сторону Османских турков. Под поддержкой Османов, некоторые из этих интеллектуалов, обученных в Стамбуле, начали пропогандировать Османские цели в Кавказе.
В 1819 году в результате многочисленных процессов, три страны образовались на Кавказе.
Несмотря на то, что существуют многие документы в МИД-е ИРИ о Грузии и Армении, но из-за того, что в своей работе не рассматривал эти страны, не будем их затрагивать.
Среди первых проблем в отношениях между Ираном и недавно образованным Кавказским Азербайджаном можно указать на переименование страны из «Арана и Ширвана» в “Азербайджан”. Оно не только вызвало резкие реакции таких мыслителей как Хиабани и Касрави, но и повлекло за собой протест иранских государственных деятелей.
Иран имел генеральное консульство в Тбилиси, консульства в Баку и Иреване и консульский агенты в Сабунчи, Ленкуран, Гяндже и Багуми.
Большинство иранцев проживали в нефтянных районов, особенно в Сабунчинском районе Баку. Заодно многие другие рабочие проживали в городе Баку. Среди иранцев, также было много азербайджанских торговцев из Ардабила и Тебриза.
Вследствие российской революции и резкой нехватки продуктов питания, началось широкое разграбление имущества иранцев,условия которых были лучше по сравнению с другими. Это разграбление сопроваждалось убийством многих иранцев. Согласно данным, из двух тысяч убитых в Баку, пятьсот были иранцами, в том числе брат помощника иранского консула в Баку.
В таких небезопасных обстоятельствах иранцы начали покидать Баку и другие города, но управляющий совет Кавказского Азербайджана препятествовали этому. При всех усилиях почти десять тысяч людей через Астару и Анзали смогли убежать в Иран, некоторые из которых были выходцами из Кавказкого Азербайджана.
Переговоры между Ираном и Азербайджанской республикой во многом былы сосредоточены на следующмх темах:
-Кавказский Азербайджан требовал признание сувереритета со стороны Ирана, и поэтому настаивал на обязательную военную службу иранцев, проживающих в Азербайджане.
С другой стороны Иранское государство требовало:
1- Безопасности ирнаских граждан и компенсирование нанесенных на иранцев ущерб.
2- Именование «Арана и Ширвана» Азербайджана.
– Изменение Флага Республики.
Наконец, государство Фатхалихана Хубинского, в котором участвовали представители из всех партий и сам он был умеренным человеком, согласилось, в Меджлисе наименовать регион как «Азерстан» или «Аран» и изменить флаг, на флага, похожего на Османский.
Но через некоторое время, когда Юсуф бейг пришел к власти, все члены кабинета были избранны из партии "Мусават", и в связи с враждебностью членов этой партии по отношению к ирану, испортилисьАзербайджано-иранские отношения.
1- Мусаватские не приняли шестнадцатипунктового договора подписанного чрезвычайным полномочным послом Исмаилханом Зядхановым в тегеране.
2- Утвердили в Меджлисе название государства «Азербайджанская республика»
3- Стимулировали Хаджибаба Ардабили действовать в Ардабиле против Ирана.
4- привели к Материвальному и духовному ослаблению иранцев:
-Конфискация имущества торговцев и рабочих,
- с прибытием Османских турков в 1918 году жестко подавлены Иранцы, имевшие хорошие отношения с большевиками.
- с прибытием большевиков Иранцы-сторонники Османских турков потерпели поражение.
Во всяком случае, Советский союз, Османские турки и Турция и члены партии Мусават пытались удалить ирнацев.
Иранский консул в Тбилиси написал:
«Слышиться шепот о включении Азербайджана в Кавказ для формирования Туранского государства».
Вопрос о границах:
Ленкуран уже не был в сфере влияния Баку и власть в этом регионе была в руках антимусаватских болшевиков. Мусаваты через Хусейна Рамаданова заняли Астару и потребовали Ирана завоевать русскую Астару для того, чтобы противодействие ирана и болшевиков было в пользу Баку.
В этом же фронте против большевиков сражались белые русские и жители Ленкурана были под давлением с трех сторон.
Представитель иранского консульства в Ленкуране, Садыкоддовле, собирал в рабочем здании более ста иранских и других военных сил чтобы защищать жизнь людей. Здание было населено англичанами и через месяц переговоров передали город стороннику Мусавата, Рамаданову. Англичане убедили белых русских признать сувернитет кавказкого Азербайджана.
Вход англичан в кавказ изменил условия в пользу Баку.
Распад османской империи и победа большевиков над белыми русскими в Дагестане и план англичан для поселения Греков в Анатолии и Эзмире изменили условия на кавказе. С руководством Мустафы Камала Паши (Ататюрка) фактически была образована Турция и для того, чтобы противодействовать английскому плану, старалась сблизиться с болшевиками.
Ататюрк в соответствии с этой политикой решительно противодействовал признанию кавказского Азербайджана со стороны Ирана и с укреплением Исмаила Семитку, поставил под угрозу иранскую мощность на вблизи турцих границах, в результате чего ослабела иранская позиция среди кавказских мусульман.
Иран, стремившийся с опиранием на англичан укрепить свою позицию на кавказе, с выходом англичан из региона не только не достиг никаких успехов, но и увлечилась чувсвительность болшевиков к ирану.
С помощью посланцев Ататюрка в Баку как Халил Паша и Нури Паша и тесным сотрудничеством бакинских болшевиков как Нариман Нариманов, упала новообразованная кавказская азербайджанская республика.
Операция упадка Азербайджанской Республики была планирована начальником бывшего турецкого корпуса на кавказе Халилом Пашей, Фуадом Сабетом и начальником турецкой пятнадцатой армией Каземом Карабеком и директором народного представительства турции; в планировании также участвовали бакинские большевики как Нариман Нариманов, который был директором отдела по вопросам мусульман и восточных стран в москве, и Мирза Давуд Хусейнув, Хамид Султанов и Али Гейдар Караев.
Так как Ататюрк считал кавказских стран буферной зоной, т.е. базой для противников Турции и в том числе для англичан, он решительно выступал против независимости стран кавказа в частности Азербайджанской Республики.
С падением Азербайджана Ататюрк проследовал следующие цели:
1- Учитывая сильную позицию в республике и английские усилия для удаления турции, распад новообразованного кавказского Азербайджана заставлял англичан выйти из региона. Ататюрк написал письмо азербайджанским лидерам, в котором подчеркнул, что если они продолжают поддерживать Союзников, он будет нападать на Азербайджан.
2- В связи с противоречием между болшевиков и англичан удаление трех стран вызвало объединение двух врагов англичан или инными словами двух врагов Союзников.
3- Объединение двух государств обеспечило бы возможность большого потенциала для борьбы двух государств с англией.
4- С удалением трех кавказских государств можно было бы фактически решать и вопросы Карса и Ардахана.
5- Противоположность турции армянам обеспечила бы расширение турецкого влияния на Нахдживанцев.
Роль и место среднеперсидских языка и письма в кавказской Албании
Муртазали Серажутдинович Гаджиев
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (Россия, г. Махачкала)
Значительное политическое и культурное влияние сасанидского Ирана на Кавказскую Албанию уже с 330-х гг. и последующее включение ее в состав Ираншахра, размещение здесь крупных воинских контингентов Сасанидов, иранской администрации и служителей зороастризма, позволяют говорить о распространении среднеперсидского языка и письма (pārsīk) в среде албанской знати и администрации. Этому процессу были способствовать тесные династические связи Аршакидов Албании с Сасанидами. Так, царь Албании Урнайр (ок.350-375) был мужем сестры (или дочери) шаханшаха Шапура II (309-379), царь Асваген (ок.415-440) являлся сыном сестры Шапура III (383-388) и супругом дочери шаханшаха Йездигерда II (439-457), царь Ваче II (сер.V в.) был сыном сестры шахов Хормизда (457-459) и Пероза (459-484) и был женат на их племяннице; страстный поборник христианства царь Вачаган III Благочестивый (ок.485-510) также был «из царского рода Персии». Эти факты дали мне повод говорить об Аршакидо-Сасанидской династии Кавказской Албании. Иранское происхождение имел и князь Гардмана Михран (кон.VI в.), потомки которого основали новую династию правителей Албании.
В письменных источниках приводятся указания на переписку правителей Албании, Армении, Иберии с Сасанидами, на направляемые в закавказские провинции Ирана письменных указов шаханшахов, что косвенно указывает на распространение здесь среднеперсидских языка и письма. Так, например, Егишэ (V в.), повествуя о подготовке Йездигерда II к войне с кушанами, сообщает, что шаханшах направил в вассальные страны предписание о предоставлении и сборе войск: «...послание было получено в стране Армян, стране Иверов, и стране Албанов, и стране Лбинов, и стране Цавдеев, и стране Кордуев и стране Алдзник, и во многих других отдаленных местностях…» (Егишэ. 1971.С.30). Вхождение Албании в государство Сасанидов на правах марзбанства предполагало включение ее в сферу письменной культуры и административного делопроизводства Ирана.
Свидетельством использования парсика в Албании являются среднеперсидские надписи Дербента, датируемые временем правления шаханшаха Хосрова Ануширвана (531-579), точнее концом 560-х гг.. Данные надписи можно условно рассматривать в качестве памятников среднеперсидской эпиграфики Кавказской Албании, учитывая их нахождение на исторической территории Албании (как составной части Ираншахра) и принимая во внимание, что они составлены иранцами, на что указывают имена собственные, фигурирующие в них.
Но имеются три уникальных памятника лапидарной палеографии, которые являются памятниками среднеперсидской эпиграфики Албании. Это уникальные геммы-печати царя Албании Асвагена, принца Албании Асая и Великого католикоса Албании и Баласакана. Эти представляют огромный интерес для исследования культурных и политических связей Ирана и Албании, для изучения албанской сфрагистики. Титульные надписи на официальных печатях албанского царя-христианина, при котором была разработана и введена оригинальная албанская письменность, наследного принца и главы христианской церкви Албании, выполнены на парсике и среднеперсидском языке. Это, несомненно, указывает на значительную роль среднеперсидских языка и письма, как среди высшей албанской знати, так и среди высшего духовенства страны, ярко демонстрирует огромное политическое и культурное влияние сасанидского Ирана на Кавказскую Албанию. Эти памятники глиптики и эпиграфики наглядно свидетельствуют о том, что среднеперсидские язык и письмо обладали статусом государственных в раннесредневековой Албании. Примечательно и неслучайно то, что на гемме католикоса центральное изображение христианского символа (креста) сопровождается по бокам изображениями основных зороастрийских символов – полумесяца и звезды, а на печати царя-христианина Асвагена в качестве государственной эмблемы использован зороастрийский, сасанидский символ «лунной повозки», очевидно, демонстрирующий династическую связь с Сасанидами, принадлежность к этому могущественному, «происходящему от богов» царственному роду.
Сасанидские оборонительные сооружения в Дагестане в эпоху раннего средневековья
А.А. Гусейнова, А.К. Махадов
Исторический факультет, Дагестанский государственный университет
Баб-аль Абваб- это арабское название города-крепости Дарбанда (от перс. «Дарбанд» - «Закрытые ворота»). Это название точно и ёмко отражало географическое и политическое положение города, который являлся ключевым опорным пунктом в системе оборонительных сооружений, созданных еще Сасанидскими шахиншахами.
Строительство укреплений в Прикаспийском проходе древние авторы, как правило, связывают с именами трёх царей Сасанидской империи: Йездигерда II (438-457 гг.), Кавада (488-531 гг.) и Хосрова I Ануширвана (531-579 гг.).
По сведениям древних армянских авторов- Моисея Каганкатуаци (VII в.) и Егише Вардапета (V в.), Йездигерд II строил укрепления на северных границах, подчиненной персами с середины V века в Кавказской Албании.
Арабские авторы IX-X вв. обычно связывают строительство Дербентской оборонительной системы с именами Кавада и Хосрова I Ануширвана. Баладзори пишет о строительстве Ануширваном стены в районе Дербента, которая укрепляла границу Сасанидской империи против хазар, она «была проведена до вершин гор» и проложена «в море на три мили». «Окончив постройку стены, Ануширван повесил у входа её железные ворота, поручив охрану их ста всадникам», тогда как раньше для охраны этого места требовалось пятьдесят тысяч солдат».
В сочинениях арабских авторов, писавших после Баладзори, сведения о строительстве Кавада и Ануширвана постепенно сливаются, смешиваются, но в то же время некоторые из этих авторов сообщают ряд интересных дополнительных сведений о строительстве Дербентской оборонительной системы. Так, писавший почти одновременно с Баладзори Ибн-Хордадбе (IX-начало X в.) сообщает, что Кавад «выстроил кирпичную стену», а Ануширвану он приписывает строительство Дербента и «360 замков и укреплений в горных ущельях. На протяжении 7 фарсахов устроено 7 проходов, у каждого из этих проходов город, а живут в них (городах) персидские воины».
Это очень ценные сведения о Горной стене, которые наиболее правдиво описывают её протяжённость (7 фарсахов- около 40 км, 1 фарсах примерно 5,7 км) и количество построенных вдоль неё крепостей с постоянным населением).
Автор X века Масуди, сообщая о строительстве Ануширваном Горной стены, пишет: «На каждых трёх милях этой стены, а то и больше или меньше, сообразно с дорогами, соответственно которым он поставил ворота, он сделал железные ворота и поселил там с внутренней части каждых ворот народ, обязанный охранять эти ворота и соседнюю часть стены. Всё это служило для защиты от нападения народов, примыкающих к горам Кабх, каковы хазары, алланы, турки, сериры и иные племена кяфиров».
Сравнительный анализ противоречивых сообщений арабских авторов дает возможность считать, что строительная деятельность Кавада и Ануширвана относится, по-видимому, к различным объектам: Кавад строил или одну из сырцовых оборонительных линий южнее Дербента, или же предшествовавшие каменные сырцовые стены Дербента, а ко времени Ануширвана относится сооружение каменных стен Дербента и Горной стены.
Разумеется, основной рабочей силой при строительстве грандиозных каменных укреплений в Дербентском проходе были местные жители и строители из близлежащих районов Кавказа.
Албанский и армянский историк VII века Моисей Каганкатуаци (Каланкатуйский) пишет о «дивных стенах, для построения которых цари персидские изнуряли страну нашу, сбирая архитекторов и изыскивая разные материалы для построения великого здания, которое соорудили между горой Кавказом и великим морем восточным».
Ситуация в Сирии в свете перспектив столкновения на ее территории региональных и мировых держав
Антон Евстратов
Российско-Армянский Университет, Ереван, Армения
В данном исследовании анализируется текущее положение дел на территории САР в свете действий основных вовлеченных в сирийский конфликт сторон - внутригосударственных, региональных и внерегиональных. Кроме того, оцениваются перспективы дальнейшего развития ситуации и предпосылки урегулирования противостояния в Сирии.
Психоанализ образа арцахцев в контексте фольклорных ценностей
Караханян Лусине
Арцахский Государственный Университет, Министерство образования, науки и спорта Республики Арцах
В статье представлен образ арцахца в констексте фольклорных ценностей. В частности, внимание было уделено структуре самости, основанной на ценностях, в которых происходят корреляция и адаптациябессознательного и сознательного.
В фольклорных ценностях скрыты стереотипы, предрассудки, установки, которые не только отражают образ арцахца, но и помогают предвидеть некоторые мотивы поведения.
Попытки использовать движение джелалиев династией Сефевидов
Самвел Асатурович Маркарян
Российско-Армянский Университет, Ереван, Армения
Как известно, династия Сефевидов пришла к власти в Иране в 1501г. и объявила шиизм государственной религией страны. В то же время, шиизм был широко распространен среди кочевых тюркских племен Малой Азии, Западной Армении и Сирии уже с ХIV века.Власти Османской Турции знали об этом и старались всячески искоренить шиитов, которые в свою очередь рассчитывали на помощь Сефевидского Ирана в противостоянии с правительственными структурами турок. А турецкие власти начиная с султана Селима Явуза ( 1512—1520) прибегли к политике физического уничтожения шиитов. И тогда в 1519 г. между Токатом и Амасией зародилось движение шиитов—джелалиев, направленное против репрессий турецкого султанского правительства. В это время разные течения шиизма были популярны в Малой Азии-- мотазилизм, шоубиды, зейдизм, исмаилизм, учения карматов и джаффаридов.
Движения шиитов Малой Азии и Западной Армении носили четко выраженный социальный характер. Интересно и то обстоятельство, что этнический состав джелалиев был весьма пестрым—основная часть движения представлена тюрками и туркоманскими племенами, но наряду с ними в источниках упоминаются и курды, и арабы, и друзы, и «девширме», и армяне, и христиане—несториане ( видимо, сирийские арабы, являвшиеся христианами еще с V века ).Весь ХVI век на протяжении нескольких десятилетий восточные области Османской империи сотрясали восстания джелалиев, которые жгли и грабили поместья мелких феодалов, а крупных землевладельцев часто казнили и все их имущество разделяли между собой. Эти восстания часто перекидывались в районы вокруг оз. Ван (особенно восточные ), а также пограничные районы Сирии и Киликии. Шах Тахмасп заигрывал с вождями джелалиев, но открыто опасался оказывать им помощь. Джелалии знали, что на территории Сефевидского Ирана им всегда дадут приют и укроют.
Но в 1578 г. султанская армия Мустафы Лала—паши нарушила мир с Ираном и двинулась в поход через Армению, восточную Грузию и Ширван на Дербент, но зимовать в разоренных ею же областях она не стала, а вернулась в Карс и Эрзерум на зимние квартиры.
Попытки Сефевидов с помощью войск шахзаде Хамза Мирзы отбросить турок были вполне удачны, но в 1585 г. сам Хамза Мирза был убит в результате племенных раздоров кызылбашских племен.Казалось, время Сефевидов истекло и они вскоре сойдут с исторической арены. И в этой сложной обстановке группа пассионарных хорасанских эмиров возвела на шахский престол 16-летнего Аббаса Первого.
В это время в Восточной Грузии и горных районах Западного Ирана шла партизанская война с турецкими оккупационными войсками. В то же время, Османская империя втянулась в затяжную войну с Австрийской империей Габсбургов. В 1596 г. состоялся йоклама ( смотр войск ) султана. Выяснилось, что из армии дезертировали от 6 до 10 тысяч мелких землевладельцев со своми отрядами. Это были, судя по турецким источникам, мелкие помещики с одним имением в несколько десятков крестьянских домов. Косвенные известия говорят о том, что одним из дезертиров был Кара Языджи,сипах ( мелкий помещик ),возглавивший отряд джелалиев вокруг Эрзрума в том же году. Он собрал вокруг себя таких же недовольных и обиженных райя (крестьян),чифтобазанов ( вольных людей) и сипахов (мелких феодалов). Многие сипахи из Токата и Амасьи, Карса и Анкары,Эрзинджана и Хлата поддержали это восстание.
Армия султана из Стамбула во главе с Хусейн-пашой , посланная на подавление восстания, перешла на сторону восставших джелалиев. Их отряды распространились в сторону Диарбакыра, Вана, Эдессы, Муша, Алеппо и Дамаска. Три года джелалии хозяйничали в восточных областях Османской империи. Кара-Языджи объявил себя посланником пророка на землю. Число участников движения джелалиев по разным источникам колебалось от 70 тыс. до 100 тыс. человек.
В 1600 г. Кара-Языджи был разбит султанской армией, но успел бежать и укрылся в горах возле Трапезунта. В 1601 г. регулярная армия догнала и убила его в горах Трапезунта, но джелалии тут же избрали своим вождем его брата Дели Хасана. Уже в 1602 г. Дели Хасан с 30-тыс. армией осадил Токат и разграбил Себастию. Богатый торговый город Токат был взят штурмом после двухмесячной осады и разграблен. И тогда султан отправил в 1603 г. 50-тыс. армию на подавление Дели Хасана. И не осталось вождю джелалиев иного пути к спасению, кроме как воспользоваться своим правом на аман (прощение), известным в мусульманском праве еще со времен пророка Мухаммеда.Интересно то, что султан простил Дели Хасана и даже назначил его наместником в Боснии.
Но и в Боснии Дели Хасан не успокоился и пытался вести переговоры с венецианцами о сдаче им каких-то крепостей. Однако, султану тут же доложили о тайных встречах и переговорах с врагами Османской империи и он приказал обезглавить вождя джелалиев. Но казнь Дели Хасана не прекратила движение джелалиев. Оно продолжилось и без него.
Тем временем, шах Аббас Первый решил возобновить войну с турками и вернуть все то, что ему пришлось уступить им в 1590 г. Обстановка в восточных областях Османской империи как нельзя лучше соответствовала его планам—восстания джелалиев продолжаются, они перекинулись на Ереванское , Ширванское и Нахичеванское ханства. На территориях этих ханств формируются отряды джелалиев из крестьян Карби, Аштарака, Канакера, они нападают на дома вельмож правящих ханов и предают грабежу их. Персидсий шах решил, что это самый удобный момент для отвоевания Ереванской крепости и изгнания турок из всего Южного Кавказа. Войска кызылбашского государства нарушили мир и в 1603 г. возобновили военные действия. Персы заняли Тавриз,Марагу, Хой, Ереван и Ширван и подступили к Дербенту.
А тем временем, отряды джелалиев множились и хозяйничали под Эрзрумом ( Ахмед Гарагаш ), в Конии ( Чауш Мусеми ), в Диарбакыре и Киликии ( Даму-Насиж , Йола Сахмаз, Агаджан Пири), в Западной Армении от Себастии до Малатии действовали отряды Ширин-бека, Табул-бека, Ибрагим- бека. Особенно прославились смелыми набегами и дерзкими налетами на дворцы крупных землевладельцев Календар- оглу и братья Джанполады. Курды Джанполады вступили в союз с друзами Ливана и христианами Сирии. Шах Аббас писал письма вождям джелалиев и заверял их в дружбе и поддержке. И действительно, когда в 1608 г. турецкая армия стала преследовать джелалиев, Календар-оглу с 4 тыс. своих сторонников ушел через Карс к ереванскому беглярбеку Амиргуна-хану. В самом городе укрылось 1780 джелалиев. Шах Аббас приказал переправить их в Тавриз и уже оттуда Календар-оглу обратился с письмами и прокламациями к вождям джелалиев, призывая их убивать турецких солдат и переходить на сторону «справедливого и добродетельного » персидского шаха. Но прошло два года и Календар-оглу был загадочным образом убит в Тавризе. Убийцу так и не нашли, а джелалии из Тавриза бежали и рассеялись по всем восточным областям турецкой империи.
Окончательно последние джелалии были разгромлены и рассеялись по турецким провинциям только в 1623—1628 гг. Можно сказать, что это было мощное протестное социальное движение различного этнического состава, восстания которого пытался использовать персидский шах Аббас Первый в своих интересах.
Армения и Дагестан в раннем средневековье
А.К. Махадов, А.А. Гусейнова
Исторический факультет, Дагестанский государственный университет
К глубокой древности восходят армяно-дагестанские связи, которые вступили в дальнейший этап развития в раннем средневековье.
Важный интерес представляют археологический, фольклорный, эпиграфический и лингвистический материалы.
По теме дагестано-армянских связей важные сведения содержатся в сочинениях армянских авторов, в которых часть населения Дагестана иногда известна как гунны, а другая входила в Кавказскую Албанию.
В своем труде «отец армянской историографии» Моисей Хоренский (Мовсес Хоренаци V в.) упоминает о «землях гуннов». Перечисляя народы, населяющие территорию Северо-Восточного Кавказа, он называет албан, армян, массагетов, легов, таваспаров, других народностей Дагестана, а также пишет о городах и владениях Дагестана.
В сочинении Егише Вардапета (V в.) «О Вардане и войне армянской» говорится о народах Дагестана и их борьбе совместно с армянами против персидских шахиншахов.
Фавстос Бузанд (V в.) в «Истории Армении» пишет о дагестанских народах и владениях, а также о борьбе их против сасанидов. Сведения о народах Дагестана, о Чоре (Чога) содержатся и в «Армянской географии» (VII в.) Анания Ширакаци. Весьма ценным является труд Вардапета Гевонда (VIII в.) «История халифов Вардапета Гевонда», в котором говорится о народах Дагестана, об арабо-хазарских войнах. Мовсес Каганкатваци (X в.), будучи уроженцем области Ути Кавказской Албании, в своем труде «История агван» описал посольства албанского католикоса Виро (596-629) к Шату-князю тюркутов и албанского епископа Исраила к каспийским гуннам, а также приводит сведения о городах, социальных отношениях между жителями Южного Дагестана, о военно-политических событиях. Также отрывочные сведения о дагестано-армянских связях содержаться в грузинских, персидских и арабских источниках.
Взаимоотношения Дагестана и Армении развивались в зависимости от международного положения Кавказа, вызванного политикой Сасанидского Ирана и Византии в регионе. Народы Закавказья и Дагестана не переставали выступать против политики сасанидов. Одним из организаторов борьбы народов Кавказа против сасанидов был Вардан Мамиконян, который встретил превосходящие силы сасанидов в районе зимней резиденции албанских царей -г. Халхал (около совр. Казаха).
Наряду с политическими между Арменией и Дагестаном развивались и торгово-экономические взаимоотношения. В связях дагестанских народов и армян немалую роль играл Дербент. Крупными центрами ремесла и торговли Армении являлись Арцн, Карс, Ван, Двин, Ернзка, Ервандашат, Зарехаван, Заришат, Нахичеван и др. они принимали участие в мировой торговле, и многие из них были связаны с городами Дагестана и Северного Кавказа. Дербент, в котором жили армянские купцы, находился в торговых связях со многими закавказскими, в том числе и армянскими городами. Дагестанские торговцы поддерживали связи с армянами в городах Ширвана и Грузии.
В развитии армяно-дагестанских связей важную роль играла христианская религия. Армения, где христианство стало государственной в 314-316 годах, сыграла важную роль в распространении христианства в Дагестане. Албанская церковь была зависима от армянского католикоса. Миссионеры Армении прилагали немало усилий, чтобы насадить христианство в Албании. Фактором, способствовавшим деятельности армянских миссионеров в Дагестане, было усиление влияния Армении на Южный Дагестан.
Говоря о культурных связях Дагестана и Армении, следует отметить, что в раннем средневековье армянский народ создавал новые шедевры своей материальной и духовной культуры.
Говоря о культурных связях Дагестана и Армении, следует отметить, что основоположник армянской письменности Месроп Маштоц, наряду сармянской, создал и албанскую письменность.
Об исторических связях Армении и Дагестана свидетельствуют лингвистические, фольклорные жанры: пословицы, поговорки, сказки, эпиграфические, топонимические материалы, а также старинные могильники и поселения, предания об образовании лакских аулов Куркли, Сумбатль, Кая, Куба и др, лакских тухумов.
Итак, вышеизложенные разнообразные материалы свидетельствуют о многогранных дагестано-армянских связях в раннем средневековье.
Прикаспийские районы Кавказа и Иран в описаниях академической экспедиции XVIII века
Гоар Жораевна Мхитарян
Отдел Христианского Востока Института Востоковедения Академии Наук Республики Армения
Ареал академической экспедиции (1768-1774) Самуила Готлиба Гмелина (Gmelin, Samuel Gottleb Georg) провел комплексное исследование Прикаспийских областей Кавказа до провинций Гилян и Мазандаран в Иране.
Наряду с впечатляющим материалом по естествознанию (подробное описание флоры и фауны региона), С. Гмелин представил ряд этнографических данных, которые освещают и обобщают этно-политические сведения о народах Прикаспия (армянах, евреях, персах (татах), татарах, индийцах). Он подробно описывает нравы и обычаи народов Ирана, уделяя их изучению сотни страниц. С. Гмелин также составил обширное описание иранских городов и населенных пунктов Энзели, Тавриз, Кашан, Решт, Мазандаран и т. д.
Академик большое внимание уделял политическим вопросам, касающихся взаимоотношений закавказских и персидских ханов с Российской империей, анализировал их политические взгляды, внешнюю политику, а также затрагивал русско-иранские торговые отношения.
Следовательно, итоги экспедиции С. Гмелина имеют не только огромный научный интерес, но и представляют политическое, историческое и социально-экономическое значение для исследования истории Прикаспийских районов Кавказа и северных областей Ирана.
Ал: Персонаж пандемониума вмифологии и фольклоре народов Дагестана в начале XXI века
Публикация подготовлена в рамках поддержанного отделением гуманитарных и общественных наук РФФИ научного проекта
№ 16-01-00038
М.Р. Сефербеков, Р.И. Сефербеков
Институт истории, археологии и этнографии, Дагестанского научного центра РАН
Большое место в демонологии тюркских и иранских народов мира занимал мифологический персонаж Ал/Албасты. Предполагается, что этот образ сформировался в эпоху древнейших контактов этнических общностей до их расселения на территории современного обитания. ПервоначальноАл/Албасты – добрая богиня, покровительница плодородия, материнства, домашнего очага, а также диких животных и охоты. С распространением более развитых мифологических систем она была низведена до роли одного из злых демонов.
В мифологиях народов Дагестана этот образ известен в основном в качестве демона-антагониста беременных, рожениц и новорожденных.
Образ Ал имеет как прямые заимствования, так и свои местные аналогии. Он занимал заметное место в мифологиях аваро-андо-дидойской, лезгинской и тюркской этноязыковых общностей Дагестана, а также у даргинцев, горских евреев и татов.
Большинство названий этого демона у лезгинских и тюркских народностей Дагестана восходит к закрепившейся и в русском языке тюркской лексеме Ал (алый, красный, ярко-светло-красный, розовый).
В мифологиях народностей аваро-андо-дидойской этноязыковой общности функции демона Ал выполняли боги-патроны диких животных и охоты Будалаал, которые крали плод из утробы у отдельных женщин.
У различных этнических групп даргинцев демон имел свои наименования – Албасти, АвлигIуне, Гурлиан, КIуне, ГегучI, Вагьигг, Иней-аба, Мамахъус.
В мифологии лезгин демон-антагонист рожениц назывался Ал паб. Его представляли в облике старухи с длинными, распущенными волосами и пальцами с когтями.
У табасаранцев Кафтар гъари / Кафтар бав («Бабушка Кафтар») –антагонист женщин и девушек. Его представляли в облике старой женщины, охраняющей родники. Демон, крадущий плод из утробы матери и нападающий на роженицу, чтобы похитить ее внутренности, назывался Ал баб, Ири баб («Красная мать»), Аьхуь баб («Бабушка»), Кафтар баб, Ярсель.
У агулов демон, крадущий плод из утробы матери назывался Ц1абаба, Иребав, Эльместы. Это женщина или старуха, невысокого роста, полная, с длинными грудями, которые она закидывает за плечи, с распущенными волосами.
В мифологии кумыков демон Албаслы къатын являлся олицетворением злого, враждебного человеку начала. Это женщина огромного роста, с густыми распущенными волосами и с большой отвислой грудью. Живетона в лесу, в пещере.
У горских евреев беременная в последние три месяца перед родами опасалась мифического существа Вечехур («Съедающий птенца»), которое похищало ребенка из утробы матери во время ее сна. Демоном-антагонистом рожениц была Дедей-Ол («Мать Ол»), имевшая облик страшной женщины, одетой во все белое, с длинными волосами, обитавшая по берегам рек.
У татов аналогичный демон-антагонист рожениц назывался Ол.
Все эти мифологические персонажи, как мы считаем, восходят к образу Великой Богини-матери в позитивном аспекте ее функций (патронаж женщин, материнства и детства). С течением времени, в связи с переоценкой роли божеств, этот персонаж был низведен в разряд демонов с негативной характеристикой.
Большинство этих персонажей сохраняется в фольклоре и мифологии народов Дагестана и в наши дни. Этот феномен объясняется рядом причин – устойчивостью традиционных религиозных форм, влиянием исламской идеологии и культуры, особенностями менталитета дагестанцев – доминированием здорового консерватизма в обыденном сознании сельского населения Дагестана.
Итак, устойчивость бытования тюркско-иранского мифологического персонажа Ал и его местных аналогий в мифологии и фольклоре народов Дагестана, как в прошлом, так и в наши дни объясняется рядом причин и обстоятельств.
Al: Character of pandemonium in
mythology and folklore of the peoples of Dagestan at the beginning of the XXI century
The publication was prepared within the framework of the scientific project supported by the Department of Humanities and Social Sciences of the Russian Foundation for Basic Research
No. 16-01-00038
M.R. Seferbekov, R.I. Seferbekov
Russia, Dagestan Republic, Makhachkala,
The Institute of History, Archeology and Ethnography, Dagestan Center, RAS
A mythological deity Al or Albasty occupied a huge place in the demonological beliefs of the Turkic and Iranian peoples around the world. It is assumed that the image of that deity formed in the epoch of the earliest contacts of various ethnic groups before their resettlement on the modern territories. Originally, Al/Albasty was the goddess of fertility, maternity and home as well as animals and hunt. With the spread of more complex mythological systems, she was reduced to evil demons.
In the mythology of the peoples of Dagestan, that image is known as the antagonist demon of newborn babies, pregnant and recently confined women. The image of Al has both direct adoptions and local analogies. It took an important place in the mythological beliefs of the Avar-Ando-Didoi, Lezgin and Turkic ethno-linguistic groups, as well as the Dargins, the Caucasus Jews and the Tats.
Most of the demon’s names in the Lezgin and Turkic languages trace back to the turkic lexeme Al (crimson, red, bright-red, ruby, pink).
In the mythology of the Avar-Ando-Didoi ethno-linguistic group, the patron of wild animals and hunt Budalaal carries the features of the demon Al. Having stolen a fetus, the demon spills drops of blood on windowsills, thresholds and women’s nightgown. They would then turn the babies in their own kind. Some other subethnic groups of the Avars, such as the Khunzakhs, the Andalals, the Salatavs and others call this demon “XuduchI”. The Akhvakhs call him “Xvatala/Xъvati/Хъати”. The Andalals of the Shulanib village believe it to be a mythical creature “ГъmalakIar”, which has no limbs and carries a leather bag full of fur.
Among the different groups of the Dargins, the demon goes under the names Albasty, AvligIune, Gurlian, KIune, GeguchI, Vagьigg, Ineyi-aba, Mamakhьus.
The Lezgins believed in the antagonist demon of pregnant women Al pab. It was thought to be an old woman with long, loose hair and claws. She would appear to people naked or dressed in rags. She dwelled in desolate areas, mountains, caves and by the rivers. The main function of Al pab was stealing internals of pregnant women, after which they died.
In the mythology of the Tabasaranians, Kaftar gьari / Kaftar bav (“Grandma Kaftar”) was the antagonist demon of women and young girls. It was thought to be an old woman, the protector of springs. The demon, stealing fetus from a mother and attacking pregnant women, was called Al bab, Iri bab (“The red mother”), Aьkhuь bab (“Granny”), Kaftar bab, Yarselь. It was seen as a woman with long red loose hair. Al could turn into her zoomorphic guise and appear as a red rooster, a fox, a cat, a wolf kaftar-zjanavar with only one eye in its forehead; a creature with a monkey face and paws; a short woman with loose hair and a rooster face.
The Aguls called the demon, stealing fetuses, CIababa, Irebav, Elьmesty. It was thought to be a young or an old woman of a short height, plump, with loose hair and long breasts, which she threw over her shoulders.
Women of the Caucasus Jews in the last three months of their pregnancy were bewared of the mythical creature Vechekhur (“The devouring a nestling”), which would steal a baby from the womb of a sleeping mother. The antagonist demon of confined women was Dedeyi-Ol (“The mother Ol”). It had a look of a scary woman with long hair, dressed all in white, who inhabited riverbanks. She would be seen there, washing the internals of a confined woman, which the demon had possessed by deceit, showing up in the guise of a close relative, when a pregnant woman stayed alone in a room. A huge bloodstain in a form of a palm over the doorstep was the sign of her presence. After the demon, having washed the internals, devoured them, the woman died.
The Tats believed in a similar demon, called Ol.
All of these mythical deities, as we believe, have their roots in the image of the Mother Goddess in the positive aspects of her functions (patronage of women, maternity and childhood). In the course of time, due to revaluation of roles, this character was reduced to the category of demons with the negative features.
Thus, the existence of the turco-iranian mythological figure Al and its local variations in the folklore and the mythological beliefs of the peoples of Dagestan, both in past and present days, is explained by a number of reasons and circumstances: the stability of traditional religious forms, the influence of Islamic ideology and culture, and the characteristic feature of the dagestani peoples’ mentality – the dominance of healthy conservatism in an everyday life of the rural population of Dagestan
Этнический состов городов Дагестана в постсоветский период: современное состояние и тендеиции развития
(на материалах всероссийских переписи населения 2002 и 2010)
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-09-00420
Р.И. Сефербеков
Институт истории, археологии и этнографии, Дагестанского научного центра РАН
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 г., общая численность населения Республики Дагестан составляла 2.910.249 человек, из которых 1.315.882 были горожанами и 1.594.367 – сельским населением.
По данным Росстата на 01.02.2017 численность населения Дагестана превысила 3 миллиона человек.
В Республике Дагестан насчитывались следующие административные единицы: районов – 41, городов – 10, поселков городского типа – 19, сельских населенных пунктов – 1588. Муниципальные образования состояли из 10 городских округов с 8 городскими поселениями и 41 муниципальных района с 698 сельскими поселениями.
По результатам Всероссийской переписи населения 2002 г. соотношение городского и сельского населения в общей численности населения в Российской Федерации (РФ) составляло соответственно 73,3% и 26,7%, в Северо-Кавказском Федеральном Округе (СКФО) – 49,0% и 51,0%, в Республике Дагестан (РД) – 42,8% и 57,2%. По итогам же переписи 2010 г. соотношение городского и сельского населения было следующим: в РФ – 73,7% и 26,3%, в СКФО – 49,2% и 50,8%, в РД – 45,2% и 54,8%.
Численность населения городов Дагестана в 2002 и 2010 гг. насчитывала соответственно (чел.): Буйнакск – 61.437 и 62.623, Избербаш – 39.365 и 55.646, Каспийск – 77.650 и 100.129, Кизилюрт – 30.264 и 32.988, Кизляр – 48.457 и 48.984, Махачкала – 462.412 и 572.076, Дербент – 101.031 и 119.200, Дагестанские Огни – 26.346 и 27.923, Хасавюрт – 121.817 и 131.187, Южно-Сухокумск – 9.777 и 10.035.
Этническая среда городов Дагестана (2012 г.) неоднородна: основными этносами, населяющими город Махачкалу являются аварцы, кумыки, лезгины, даргинцы, лакцы; Каспийск – лезгины, даргинцы, аварцы, лакцы, кумыки, русские; Хасавюрт – аварцы, чеченцы, кумыки; Кизляр – русские, аварцы, даргинцы; Кизилюрт – аварцы, кумыки; Избербаш – даргинцы, кумыки, лезгины; Южно-Сухокумск – аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы; Дербент – лезгины, азербайджанцы, табасаранцы, даргинцы; Дагестанские Огни – табасаранцы, азербайджанцы, лезгины, даргинцы.
Население наиболее многочисленных национальностей по субъектам РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Республики Дагестан по итогам переписи 2010 г. распределено следующим образом: аварцы – 850.011, из них городское население – 314.057, сельское население – 535.954, даргинцы – 490.384, из них городское население – 196.873, сельское население – 293.511, кумыки – 431.736, из них городское население – 216.715, сельское население – 215.021, лезгины – 385.240, из них городское население – 176.068, сельское население – 209.172, лакцы – 161.276, из них городское население – 115.092, сельское население – 46.184, азербайджанцы – 130.919, из них городское население – 61.163, сельское население – 69.756, табасараны – 118.848, из них городское население – 53.375, сельское население – 65.473, русские – 104.020, из них городское население – 84.277, сельское население – 19.743, чеченцы – 93.658, из них городское население – 39.622, сельское население – 54.036, ногайцы – 40.407, из них городское население – 7.280, сельское население – 33.127, агулы – 28.054, из них городское население –13.716, сельское население – 14.338, рутульцы – 27.849, из них городское население –11.872, сельское население – 15.977, цахуры – 9.771, из них городское население –3.365, сельское население – 6.406.
Дагестан относится к числу субъектов федерации, где наблюдается наибольшая продолжительность жизни населения, низкий уровень детской смертности при самой низкой заработной плате.
Таким образом, в Дагестане наметилась тенденция выравнивания соотношений городского и сельского населения. Сохранение данной тенденции приведет к превращению Дагестана из аграрной республики в урбанизированную. Наибольший прирост населения наблюдается в гг. Избербаш, Каспийск, Махачкала, а наименьший – в г. Кизляр, что связано с оттоком русскоязычного населения. Наиболее урбанизированными народностями Дагестана являются русские, лакцы и кумыки. Демографическая ситуация в городах Дагестана и в целом по республике характеризуется как стабильная и благоприятная.
Суфийский трактат «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» (Базилик истин и сад тонкостей) Мухаммада ад-Дарбанди (конец XI-XI вв.) - на новом этапе изучения рукописи (проблемы перевода и интерпретации)
Магомед Гаджиевич Шехмагомедов
Отдела востоковедения, Институт истории, археологии и этнографии
Дагестанского научного центра РАН
Уникальная арабская рукопись сочинения средневекового дагестанского богослова и суфия Абубакра Мухаммада б. Муса б. ал-Фарадаж ад-Дарбанди «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик», в силу разных причин до недавнего времени оставалась неизученной. О значимости этой рукописи много раз писали такие известные востоковеды и кавказоведы как М.С. Саидов, А. Р. Шихсаидов, Г.Г. Гамзатов и др. Однако сравнительно недавно вышла в свет книга известного российского востоковеда А.К. Аликберова, «Эпоха классического ислама на Кавказе». В основе этого замечательного историко-философского исследования лежат материалы вышеуказанного фундаментального труда по суфизму Абубакра Мухаммада ад-Дарбанди, жившего и творившего на рубеже XI-XIIвв, в эпоху, которую, принято считать периодом наивысшего расцвета мусульманской культуры. Книга содержит большое количество новых фактов и интерпретаций, относящихся к истории и культуре, взаимоотношениях, в том числе между народами Кавказа и стран мусульманского Востока в частности Ирана. По мнению исследователя в указанном труде наглядно демонстрируются тесные духовные контакты между различными богословскими школами и направлениями, а также глубину и степень проникновения суфийских идей в самые различные слои традиционалистического ислама. Данная работа А.К. Аликберова, явившаяся плодом многолетних изысканий, стала важным этапом в систематическом изучении рукописи. Однако эту фазу можно считать лишь промежуточной, так как следующим этап, будет заключаться в издании комментированного перевода текста этого сочинения на русский язык.
Несмотря на масштабность и сложность задачи нами уже сделаны определенные шаги в этом направлении. В ходе работы исследователи сталкиваются с трудностями текстологического характера. В том числе это связано и с тем, что сочинение ад-Дарбанди сохранилось в единственном, списке переписанном 1342-43г. Однако в виду того что автограф безвозвратно потерян, отсутствие хотя бы еще одного списка необходимого для сличения текстов в случае возникновения разночтений которые возникают в ходе перевода, также существенно осложняет этот процесс. Кроме того в тексте переписчиком допущены существенные ошибки.
Введение в научный оборот в виде комментированного перевода этого ценнейшего сочинения существенно обогатит источниковую базу по истории и культуре региона.
Российсско-иранское сотудничество на современном этапе
А.Р. Яхъяева
Дагестанский государственный университет
История отношений Российской империи, СССР, Российской Федерации, с одной стороны, и Персии, Ирана, Исламской республики Иран с другой, имела разные периоды. В статье рассматриваются российско-иранские отношения на современном этапе, начиная с 90х годов.
Сотрудничество России и Ирана (Персии) развивается на протяжении 500 лет, в том числе и в торгово-экономическом плане[1, с. 44].
Российские и зарубежные исследователи справедливо отмечают, что Россия и Иран стали невольными союзниками после распада СССР и провозглашения американской администрацией курса на лидерство в новом многополюсном мире. Россия и Иран вынуждены противодействовать линии США и НАТО на установление «нового порядка», при котором роль ООН становится второстепенной, а судьбы государств во многом зависят от решений новых «мировых лидеров».
В 2016 г. с Исламской Республики Иран (ИРИ) были сняты экономические санкции, которые мешали нормальному развитию страны более 15 лет. Естественно, это событие затронуло российско-иранское сотрудничество, которое является важной частью современных международных отношений[2,с. 54-58].
Партнерство России и Ирана после развала СССР динамично развивается по целому ряду направлений, связанных как с экономическими отношениями, так и с политическими. Важными частями сотрудничества двух стран являются энергетические, торговые связи и, как показали недавние события в Сирии, еще и военные.
В современном сотрудничестве между Россией и Ираном можно выделить три периода: конец 1990-х гг., далее 2006–2009 гг. и с 2012 г. (особенно после введения в 2014 г. США и их союзниками санкций против России) по настоящее время.
В эти годы заключались довольно крупные соглашения на поставку в Иран российской военной техники, а также активизировались контакты в промышленности и торговле. Было подписано соглашение о строительстве российскими специалистами в Иране Бушерской атомной электростанции.
Первый период закончился в конце 1999 г., когда внешнеторговая деятельность России была связана c заключенным еще в 1995 г. соглашением Гора и Черномырдина. По этому соглашению Россия прекращала экспорт военного оборудования в Иран к 1999 г. и отказывалась заключать новые соглашения по военному сотрудничеству.
Широкого вовлечения в сотрудничество среднего и мелкого бизнеса и со стороны России, и со стороны Ирана, как отражения, прежде всего, их экономических интересов, не произошло. В определенной мере об этом свидетельствует и тип сложившихся в наших странах социально-экономических моделей. Фактически либеральными моделями, близкими к европейскому или даже турецкому типу, ни иранская модель, ни российская модель не стали. По индексу экономической свободы за 2014 г., дающему представление о степени благоприятности предпринимательской среды для развития частного бизнеса, обе страны оказались в конце списка из 186 стран. Россия — на 140 месте (в 2013 г. — была на 139 месте), Иран — на 173 месте (в 2013 г. — на 168), и главным образом, из-за низких показателей по трем пунктам: защите прав собственности (индекс России-25, а Ирана — ниже более, чем вдвое — 10), свобода от коррупции (в России индекс составил 25, в Иране — чуть лучше-23,4), свобода инвестиций (в России-25, в Иране — 0)[3,с. 52].
В рейтинге стран по «doingbusiness», составленному по состоянию на июнь 2013 г. и дающему представление о степени благоприятности условий для предпринимательской деятельности, главным образом, мелкого и среднего бизнеса, Россия заняла 92 место, а Иран оказался в конце списка, заняв 152 место из 189 стран. [4, с.11-23].
В этот период в обеих странах в экономике преобладали либо крупные государственные компании, либо частные группы олигархического типа, тесно связанные с государственными структурами. Этим можно объяснить то, что, когда с середины 90-х годов экономические связи стали набирать темп, именно эти структуры стали играть в них наиболее значительную роль. Не безынтересно заметить, что все крупные проекты с Ираном разрабатывались в то время, когда преобладающей была не только прозападная экономическая, но и прозападная политическая ориентация России.
Со второй половины 1990-х годов до второй половины 2000-х годов происходит сближение политического и экономического тренда во взаимоотношениях наших стран. Приезд в Россию в 2000 г. президента Ирана М. Хатами фактически уравнял эти два тренда до второй половины 2000-х годов.
Даже в период интенсивного экономического сотрудничества СССР и Ирана накануне исламской революции среднегодовой товарооборот (в 1975-78гг) не превышал 650 млн долл. (экспорт в Иран-400 млн долл., импорт250 млн долл.). В 1992 г. торговый оборот между РФ и Ираном составил всего 520 млн долл. (экспорт России 400млн., импорт-120 млн долл.).
Рост сотрудничества отвечает и экономическим целям нашей страны и Ирана, поставившего себе задачу, по словам Хасана Роухани в Давосе в 2014 г., войти в десятку крупнейших экономик мира в ближайшей перспективе. Еще во второй половине 2000-х гг. были разработаны совместные экономические проекты (энергетические, транспортные, в области космической промышленности, авиационной, ВТС и т.п.). Они экономически обоснованы, взаимовыгодны, но они были заморожены в результате наложенных на Иран санкций[5, с. 80].
Еще в период санкций между Россией и Ираном в 2010 г. была подписана «Дорожная карта» по энергетическому сотрудничеству на 30 лет. Реализация всех этих проектов после отмены или смягчения санкций перспективна для российских компаний, хотя в случае провала переговоров с «шестеркой» может еще более обострить отношения России с Западом. Из проектов, которые перспективны для участия российских компаний, но которые могут вызвать новый виток напряженности РФ с Западом, может стать контракт на строительстве в Иране двух новых энергоблоков АЭС «Бушер». (в как дополнение к действующему межправительственному соглашению), о чем и новом коммерческом контракте между хозяйствующими субъектами[6, с.1042-1045].
В процессе работы 21-го Мирового нефтяного конгресса в Москве в июне 2014 г. было возобновлено двустороннее нефтяное соглашение между Национальной нефтяной компанией ИРИ и российской нефтяной компанией «Татнефть», которое было достигнуто еще до ввода международных санкций против Ирана.
Какие интересы – геополитические или экономические в настоящее время преобладают в отношениях России и Ирана? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, т.к. для оказавшихся под санкциями России и Ирана реализация их экономических интересов стала представлять и геополитические цели.
Торгово-экономическое сотрудничество всегда было одним из основных направлений двустороннего взаимодействия Ирана и России. Россия находится в числе основных торговых партнеров Ирана, а Иран является крупным торговым партнером России на Среднем Востоке, государством, имеющим значительный экономический потенциал и емкий рынок сбыта российской продукции.
Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот между Ираном и РФ на современном этапе составлял: в 2013 г. – 1,59 млрд долл. США[7] 2014 – 1,68[8] , 2015 – 1,24[9], 2016 – 2,1[10], в 1-м квартале 2017 г. – 0,4 млрд долл. США.
Исследуя работы известных персидских ученых, таких как Л. Афрашани и М. Сахими, долгое время занимающихся изучением российско-иранских отношений, стоит отметить их сомнения относительно благополучной перспективы развития сотрудничества обеих стран. В своих работах они описывают нынешние отношения межу Россией и Ираном как «вынужденную дружбу против общего врага»[11, p. 244].
По мнению исследователя Ф. Руми, началом такого сотрудничества стал бы запуск в этих двух странах телевизионного спутникового канала с трансляцией новостей, исторических и этнокультурных передач, касающихся культур обеих стран. С учетом популярности спутникового телевидения, появление такого канала послужило бы отличным толчком к культурному сотрудничеству двух стран. Также посредством телевидения происходит изучение языка и традиций государства[12, с. 176].
Таким образом, важность сохранения российско-иранских отношений в положительном русле позволит Российской Федерации не только иметь надежного партнера, но и превратит Россию в ключевого игрока на Ближнем Востоке.
В период 2013-2017 гг. развивалось региональное сотрудничество. Совершались визиты представителей торгово-экономических кругов как в Россию, так и в Иран: Астраханской, Свердловской областей, республик Татарстан, Удмуртия, Башкортостан с российской стороны, провинций Западный Азербайджан, Хорасан-Резави, Гилян, Мазендеран, Фарс с иранской. В ходе визитов происходило знакомство с промышленным, экономическим, инвестиционным потенциалом стран, в результате чего была намечена реализация совместных программ и проектов.
Urartian Haldi in Comparison with Zoroastrian Bahrām as War Deities
Maryam Dara
Assistant Professor of Linguistics, Texts and Inscriptions Research Center of RICHT
Haldi, Urartian War Deity, has occupied the position of the supreme deity in Urartian territory and Bahrām in Zoroastrian beliefs is the god of war and victory as well but these two have many differences.
Our data of Haldi and related ceremonies are much more limited than Bahrām. Of course, they have been worshiped in somehow similar borders and worship places. Haldi became more important than just the god of war and became the most powerful and worshiped in Urartian territory because of the importance of war in that era but Bahrām of Zoroastrians was more of the victory than war as the believers were more peaceable than Urartian kings. Therefore, Haldi can be called the deity of blood shedding and defeating in the inscriptions but Bahrām is never called and worshiped to help the king of the time to kill the other side because of the peaceful religion of Zoroaster.
The present study will introduce and compare these two deities according to the inscriptions and texts and will highlight their differences and the higher aim of the paper is to prove that these two gods with similar functions cannot be the same or imitated from each other even in similar borders or time.
Challenges and opportunities of cultural relations between Iran and the Caucasian countries
Hamid Hakim
Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
The emergence of the independent countries of the Caucasus after the collapse of the Soviet Union has created a series of economic, cultural, political and security opportunities and challenges for Iran in this region and, consequently, caused Iran's foreign policy priorities to change in terms of developing relations with the northern neighbors of this country. One of the most important of these fields is the cultural field in which we expect more interactions due to cultural commonalities and geographical affinity, and moreover, it can be expected that the cultural sphere is a suitable platform to develop the relations in other fields. But, despite all these issues, this was not achieved as expected. A lot of reasons have been raised during this research. The present research seeks to answer the following question: what are the cultural opportunities and challenges of Iran in its relations with the Caucasian countries? Why Iran and the Caucasus countries have not reached the desirable positiondespite numerous existing capacities in the cultural field? Following this question and considering Iran's relations with the Caucasus countries, there will be solutions to improve the conditions and cultural relations of Iran with these countries.
The Ismailis of Tajikistan: Features of the Community Development
Nelli R. Khachaturian
Institute of Oriental Studies, Russian-Armenian University
The Nizari Ismailis of Tajikistan constitute the major part of the Ismailis of Central Asia.
In the past, the Pamiri Ismailis of Tajikistan were called "Badakhshans": the toponym Badakhshan denotes the territory of the part of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region of the Republic of Tajikistan, as well as the Badakhshan province of the Northern Afghanistan, where the Ismailis speak East-Iranian dialects.
The Ismailis of these mountainous areas, living in the center of the Pamir, Hindu Kush and Kara Corum ranges, have historically been isolated from other Ismaili communities. Until recently, they had even no opportunity to contact their Imam or his appointed representative. As a result, most of the Central Asian Ismailis developed autonomously under the leadership of the local caliphs.
The paper is an attempt to trace and to analyze the shaping of the Tajikistani (Gorno-Badakhshani) Ismailis' specific identity.
The Sharī‘a-Notarial Documents of 17th-18th Centuries from Matenadaran
Kristine Kostikyan
Institute of Oriental Studies of National Academy of Sciences, Republic of Armenia; Department of Neighbouring countries, Faculty of History, Yerevan State University; Matenadaran in Yerevan
The archive of Yerevan Matenadaran is one of the richest depositories of Persian historical documents. The main part of the Persian decrees issued in the period from 14th up to 18th centuries has already been studied and published in the 4 volumes of the “Persian decrees of the Matenadaran”. But only a small number of the sharī’a-notarial documents (27 deeds of purchase (qabālahs) and vaqfnāmahsof 14th-16th centuries) has been studied by H. Papazian and published in a volume of Persian documents of the Matenadaran. On the whole the sharī’a-notarial historical documents are among the least studied Persian sources in the world, whereas they contain an abundant material for social-economic and ethno-political issues of history. There are over 500 units of various documents issued by shar’ia notarial offices of Yerevan, Nakhichevan and Karabagh in the archive of the Matenadaran. The types of these documents represented in the archive of Matenadaran are the following:qabālahs (deeds of purchase), ṣulhnāmahs or muṣālihahnāmahs (a deed of conveyance), vaqfnāmahs (the act for a pious foundation), majlises (record of court examination and verdict), mahẓars (a record signed by witnesses), ijārahnāmahs (leases), vaṣīyatnāmahs (a will), mu’āviẓahnāmahs (contracts of exchange), vikālatnāmahs (letters of attorney), tamasuks (a promissory note) and qabẓes (a receipt). Often one document contains two or even three of these civil deals.
The sharī’a-notarial documents of 17th-18th centuries have reflected the laws which regulated the life of Armenian zimmīs in the Safavid state, and later, during the rule of Nadir Shah and semi-dependant khanates of South Caucasian region. The qabālahs and vaṣiyatnāmahs produced in the 17th century for Armenians mainly contain also ṣulhnāmahs, which were covenants concluded in order to strengthen the deal against encroachments of jadīd al-islam (Christians who adopted islam in adultage) relatives, who according to the Shiite Islamic law on inheritance (the law of Imam Ja’far) could pretend upon the property of their dead Christian relatives. This law was put in circulation at the end of Shah ‘Abbas I’s reign and had a disastrous effect on the state of Armenian people subject to Safavid state leading to the islamization of a considerable number of them. Only vaqfs of monasteries and the property received through a ṣulhnāmah were protected from the pretensions of jadīd al-islams. Therefore during Safavid rule over Caucasus almost all the property bought by the Armenian monasteries or received through inheritance either constituted the property as a vaqf or contained also one or even two ṣulhnāmahs for preventing later encroachments of the jadīd al-islams upon them.
The Persian documents of the Matenadaran have recorded the Turko-Persian names given to the Armenian monasteries, regions and settlements by the nomadic tribes living in their neighborhood and the local Muslim administration. The study of these names shows that they sometimes occurred in result of the distortion of the former Armenian names. Some of them were their translations into Turkish or Persian, and some names appeared to indicate the handicrafts in which were the local inhabitants engaged.
About Persian, Arabic and Georgian Versions of “Kalilag and Damnag”
Leila Kvelidze, Natia Snintradze
Kutaisi Akaki Tsereteli State University, Georgia
The world literature masterpiece "Kalilag and Damnag" has always been very popular.It’s immediate ancestor must be an Indian "Panchatantra". This collection of stories first spread to the Iranian world bordering India. Therefore, Iranian sources are of great importance to identify the history of its creation and the author.
This work was first translated into Pahlavi in Iran during the reign of Khosrow Anoushiravan. The information about the Pahlavi translation of "Kalilag and Damnag” is found in Arabic sources.The author of the translation, according to De Sacy, wasthe Indian royal doctor Dr. Barzoe. The Pahlavi version has not been preserved. Ferdowsi’s "Shahnama" gives us some information about this literary work and its translator. There are Syriac and Arabic translations of thisparticular version.
In the IX-X centuries, during the birth of new Persian literature, the Persian version of "Kalilag and Damnag" is no longer visible, but there are several versions of it in Arabic that became the basisfor the translation done inNew Persian.Among them is the Arabic translation of the 7th Century that belongs to IranianIbn al-Muqaffa.
According to "Shahnama", this work was translated from Arabic into New Persian by the great Iranian architect Balam and then was made into a poem by Rudaki.His "Kalilag and Damnag" did not come to us and it is unknown which source was used by the translator. Maybe he had both the Arabic and Pahlavi translations.
In the beginning of the XII century there was no Persian version in Iran, so it was necessary to translate this work from Arabic.There are several Persian versions translated from Arabic: the first translator is Abu Maali Hamid Ghaznavi.The work is known as Bahramshah's "Kalilag and Damnag".The other is the Nasr Allah’s version that is based on the Arabic version ofIbn al-Muqaffa. Out of the new Persian versions of "Kalilag and Danmag", the most popular was Nasr al-Allah’s edition.
All translations or versions of this work were called "Kalilag and Damnag".The exception is the version by Waiiz Kashifi in the XV century, who transferred Bahram Shah’s "Kalilag and Damnag" and called it "Anvar-i Suhaili".There are new parables added, as well as a lot of samples of classical Persian poetry, Arabic proverbs and quotations from Qoran.In 1587, Abul Fazl Ibn Mubarak created a new edition of "Kalilag and Damnag", a simplified version of "Anvar-i Suhaili".
As for Georgian translations of this work, the first Georgian translator is considered to be the king of Kakheti David (died in 1602). He used Kashif’s "Anvar-i Suhaili". Due to the death of King David, the translation was made available by anonymous Persian and Armenian translators who spoke Georgian. Here begins the history of Georgian translation of "Kalilag and Damnag". King Vakhtang was not satisfied with the translation and compared the original Persian version with the Georgian translation and preserved Persian poems in the form of poem rather than prose unlike the previous translators. Subsequently, Sulkhan-Saba Orbeliani creates the first artistic translation of "Kalilag and Damnag" in Georgian based on Vakhtang's word-for-word translation.
In Georgian, you can find three versions of this work: 1. Anvar-i Suhaili version started by King David of Kakheti, and after his death, finished by anonymous Persian and Armenian translators. 2. The second version is done by Vakhtang VI. 3. The third version of Anvar-i Suhailiis done by Sulkhan-Saba Orbeliani by editing Vakhtang’s version. The first printed edition of Georgian "Kalilag and Damnag" was based on it.
As is known, the Indian origin of the work and the average Persian version are lost.Because of this, the Arabic translation performed by Ibn al-Muqaffa in the 8th century is considered the original. In 2016, Giorgi Lobzhanidze translated "Kalilag and Damnag " from Arabic. The author edited the text in Georgian using the critical edition of “Kalilag and Damnag” published in 1957 by Aleppo, Tehran and Cairo Universities.
In 2006, Magali Todua compared the text of “Kalilag and Damnag” translated by Sulkhan-Saba Orbeliani from Persian with the original text, he also did research and attached comments.
Thus, the Persian version of "Kalilag and Damnag" translated by Vakhtang VI and Sulkhan-Saba Orbeliani has been popular among Georgian readers since the Middle Ages and has had a significant impact on the development of Georgian literary tradition.
The Kurds and their religious identifying
Mohammad-Hossein Pourrostam Hormozyari
Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia
In recent years many various revolutions in Middle East and also appearance of ISIS in Iraq and Syria, caused many consequences; like the opportunity for Kurd Society to revive the dream of being an independant community. The main factor in political and nationalistic parties is to reach their political wills and also power religious sepration and also disconnection of the latest common interests between turk and groups by using the zorostarian religion. On the other hand invasion to IRAQ and Slaughtering the Kurds particularly the Yizidi people in the excuse of being atheist by ISIS make them to insist on inducting being insecure in the society and also despite of being Moslem they are not considered as a member of Arab society. So the risk of slaughtering them with the excuse of being atheists will always threat them.
But the reason of considering spreading and introducing the zoroastrian religion by Kurds as a political movement, is that their main purpose is to achieve their political goals, not reviving the religion. They just use the recognized symbols of Zoroastrian religion; in fact the origin and main philosophy of this ancient ritual is forgotten to them.
Because knowing the religion completely is against their political goals and this causes the counterfeit in the zoroastrian religion and this factor leads to emerge fake religions that come to more coflicts among the Kurd community. Because their community has many various branches with different ideology and benefits that cause exploiting from this religion and this leads to enforcement.
But the necessity of paying attention to political advancement of Zoroastrian religion from Kurds is important, since not only this religion suffers from heresey caused by Kurds that may lead to cultural and political problems for genuine followers of this acient religion in other countires and even their political, religious and cultural freedom can be decreased or even nullified.
Kurds have always proved that they can’t politically understand that this issue will increase the hazards of political advancement from their side.
Also it must be noticed that the main danger isn’t the advancement of zoroastrian religion, but it is the manipulation of this ancient religion in hands of political parties; an advancement of distortion and fake religions that puts this religion and kurd community in great danger.
Ethnogeopolitics of Conflicts in Post-Soviet Georgia
Babak Rezvani
University of Amsterdam/Radboud University, Nijmegen
This presentation will use an ethnogeopolitical approach in order to offer understandings and explanations for the Wars in Georgia. Unlike most analysis this presentation puts a heavier emphasis on the perceptions and narratives of different ethnic and national groups in conflict, and bring into analysis, more prominently, ethnic, ethno-religious, and ethno-linguistic factors. Unlike the existing political narratives in which authors tend to take sides and depict a distorted picture of reality, this paper will do this is a balanced and rather objective way. Its main method is reflective analytic when it discusses the main narratives and discourses of parties to the conflict; Georgia, Russia and the South Ossetian and Abkhazian secessionist authorities, and not to forget the West. In August 2008 Russia invaded the Georgian territory, allegedly either after the Russian troops entered Georgia or after Georgia shelled the South Ossetian capital Tskhinvali. The Russian action was in the Western-dominated media widely interpreted as a punishment of Georgia, as that country which had adapted a Western orientation since the Rose Revolution (2003) and opted to become a NATO member. Although not totally irrelevant, the Western-Russian rivalry cannot explain the outbreak and dynamism of that war satisfactorily. The root of that conflict lies primarily in Georgia’s recent history since the last years of the Soviet empire, and ethnic demographic of Georgian-Russian borderlands. Russian involvement in the conflict was due to its internal security rather than motives related to the global geopolitics. This article will focus mainly on the internal dynamism of these conflict as the Soviet political legacy is enduring and long lasting and will reflect upon the Russian-Georgian war using an ethnogeopolitical approach. Furthermore, article will reflect upon this focusing on the regional and global geopolitics and using a geostrategic approach. A careful reflection upon that war, almost one decade after its termination concludes that the roots of this war lies in the ethnogeopolitics of Georgia and Georgian-Russian borderlands, whereas the geostrategic approach also reveals that the Global geostrategic developments and calculations may also have played a role in this conflict; this is now particularly understandable in the context of the Syrian Conflict.
Toponym Basis and Structural Analysis of Esfahan Province
Elahe Taghvaei
Yerevan, Armenia
Toponymic research is simultaneously based on three scientific disciplines - history, geography and linguistics. The last one forms the basis of the toponymy, because toponym is the recording of geographical object's name through the linguistic units.
The present paper aims to provide a semantic, lexical and etymological research of the Isfahan province's toponymy and reveal the lexical units, reflecting the Western Iranian dialects' core and remaining merely in toponyms.
The Isfahan province's toponymic survey is made by complementation with researches about Iran's toponymy in general and taking into account theirs results. The whole material is examined from semantic, lexical and etymological perspective. The etymological research's axis is definition the main semantic fields of the Isfahan toponyms. The lexical research aims to find out toponyms' components and their correlations. The etymological survey is produced by using internal and external reconstruction, and comparative linguistic analyse methods
-
As a result of the research, we came to conclusions that many iranian toponymy bases of Isfahan province evidence about the old iranian stratum of this area, which can occur in earlier and later periods, and includes Persian and local dialectal forms.
-
The iranian toponym bases have also self-standing word-meaning, for example, Bard stone, , Bīd ուռի , Bāγ garden, Barzanքաղաքիհատված, Čāh (čāl) well, Čoqā hill , Deh/de village, Dez/dež castle, and those, having only morphemic use - And/andu Border, Side, Ard Truth, Barz high, mountain, Čam near the river, Šīr good, Kah canal, Tel mud, Nar pleasant, brave Vār/var blocked place. This list of words is a part of the main iranian vocabulary, which produces toponyms.
-
In Isfahan province's toponyms' system the group of simple toponyms is small in number. They are mostly geographical names, ethnonyms, common names, even phytonyms, that became proper names, like Dašt field, Darre canyon, Van tree, Čenār Platanus and so on.
-
The most widespread and viable method of word composition of the toponyms of Esfahan is suffixation by means of toponymic suffixes .However ,the list of suffixes that make up the toponym in Isfahan is rather limited: `-ābādPlace, place of rest, -ān, -gerd/-jerddone, constructed", -vānPlace, dwelling.
In the Mountain Sanctuary
Galina Woodova
Charles University, Prague, Czech
Hidden in the Caucasus Mountains of Azerbaijan a bilingual Lahij community forms one of most striking exceptions to assimilation. The Lahij people were able to keep not only the ancient Southwest Iranian language, but also several layers of religion and traditional way of life including mastery of craftsmanship. In Lahij it is possible to observe the cultural past of Azerbaijan and Iran and experience authentic way of life, which already disappeared elsewhere. My goal is to explore the current perception of self-awareness, forms of belonging, or togetherness of Lahijans. Though anthropology previously mostly tried to avoid study of morality and virtues they are an inseparable part of Lahijness.
The presentation is a result of fieldwork with adjusted anthropological method
of an observant participation. This approach gives locals the role of guides and teachers and the researcher takes an attitude of a learner. Also it involves a careful observation of local ways with the purpose of blending in. Narrative interviews in natural settings and popular narratives became helpful in attempting to understand the Lahij mindset.
The etic, outsider and emic, insider views and their particular interaction emerge through attitudes to ethnonyms, relationship between minority and titular language and the ways of interpreting ethno genesis. The heart language of Lahijans is threatened and economic hardship accelerates the erosion of former identity. The emblematic trade of coppersmith and other craftsmanship are decreasing. Youth leaves in search for jobs and faces choices regarding expected family values ‘outside the boundaries.’ On one hand, life cycle events confirm the old ethics, on the other hand, re-evaluate gender interaction.
Religious consciousness is affirmed first by self-identification. The customary use of blessings has a special place in Lahij. The religious festivals and their elaborate celebrations can become identity markers; nevertheless, they combine divergent characteristics. While the projected face is clearly recognizable, the hidden undercurrents seem to run deep. Through particular actions performed during the rites of passage and the symbolism of the Novruz few ancient motives could be observed and comprehended as Zoroastrian.
Mandūr or Mundhūr: An Unknown Toponym in Xusrow u Shīrīn by Niẓāmī
Amir Zeyghami
Institute of Oriental Studies, Russian-Armenian (Slavonic) University, Armenia
The mathnavī of Xosrow u Shīrīn is a famous tragic romance by Niẓāmī of Ganja (d. 1217 A.D.), narrating the love story the Sasanian king, Xosrow II Parvīz (590-628 A.D.), and the Armenian princess, Shīrīn, famous for her supermundane beauty.
Despite numerous studies of the Niẓāmīʼs poem, still not all aspects of its text are clarified, particularly regarding the toponymic nomenclature mentioned by the poet. The present note is an attempt to identify the place-name مَندور/مُنذور/منظور in the text of Niẓāmī Ganjavīʼs Xusrow u Shīrīn, which has no yet a reliable interpretation.
بررسی آمار مهاجرت ایرانیان به قفقاز در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
سوده ابراهیم زاده گرجی
دکترای تاریخ ایران دوران اسلامی
بحران اقتصادی ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنار مسائلی چون خشکسالی و قحطی های مکرر، ظلم و تعدی حاکمان و ملاکین و سایر زورمندان بر مردم موجب بیکاری و فقر تعداد زیادی از کشاورزان، پیشهوران و ورشکستگی تجار شد. این فقر و نداری در فرار افراد بیکار و بیچیز از روستاها به شهرها و در نهایت به خارج از کشور نقش مهمی داشت. بر اساس آمار و اسناد موجود، ایرانیان بسیاری در جستجوی کار و درآمد به مناطق دوردستی همچون هندوستان، قاهره، استانبول، دمشق، قفقاز و بسیاری نقاط دیگر مهاجرت کردند. در این میان، قفقاز به علت مرزهای مشترک در شمال ایران و نیز اشتراک مذهبی، زبانی و فرهنگی مقصد بسیاری از مهاجران ایرانی بود. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر منابع و اسناد مختلف، به این مسئله بپردازد که آمار مهاجران ایرانی به قفقاز در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چگونه بود؟ نتیجه بیانگر آن است که به علت پیشرفت صنعتی باکو، به ویژه در زمینه صنعت نفت، ایرانیان زیادی به این ناحیه مهاجرت کردند و به صورت فصلی یا دائمی در آنجا مشغول کار شدند. شهرهای تفلیس و گنجه و پس از آن شهرهای ایروان، باتوم و دیگر شهرها رتبه بعدی را در پذیرش مهاجران ایرانی دارد.
سیر تاریخی زبان تاتی کُلُور خلخال ، با نگاهی به آثار تاریخی و ادبی
سید سعيد احدزاده كلوري
دانشآموخته دکتری زبان وادبيات فارسي،رییس دانشگاه فرهنگیان گیلان
گویش تاتی که از آن به زبان کهن آذربایجان هم یاد می شود ، بازمانده ی زبان کهن ایران باستان است که هنوز هم در قسمت های مختلفی از این کشور دیرسال به حیات خود ادامه می دهد، آشنایی و حفظ این زبان باعث می گردد تا ارتباط زبانی و تاریخی زبان پارسی امروز با زبان کهن ایران ادامه پیدا کند و شناخت و حفظ این گونه گویش ها کمک خواهد کرد تا شارحان و تصحیح کنندگان متون مختلف ادبی و تاریخی متون را به صورت دقیق تر و درست تر شرح و به اهالی فرهنگ و هنر ارائه نمایند در این مقاله تلاش شده است سیر تاریخی گویش تاتی شاهرود خلخال با توجه به آثار تاریخی و ادبی بازشناخته شود و همچنین با ذکر مثال های مختلف از آثار ادبی، سعی شده است تا ضرورت آشنایی با زبان تاتی یکی از کهن ترین گویش های پارسی باستان برای پژوهشگران بازنمایانده شود . مثال های انتخاب شده از زبان تاتی از گویش تات نشین های درة شاهرود خلخال و با تمرکز به گویش تاتی مرکز بخش شاهرود ؛ یعنی شهر کُلُور، از مشهورترین و پرجمعیت ترین مناطق تات نشین ایران و آذربایجان می باشد.
تأثیر دیپلماسی اقتصادی بر روابط فرهنگی ایران و کشورهای قفقاز جنوبی(آذربایجان، ارمنستان و گرجستان)
علی آدمی، مهدی خورسند
عضوهیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقهای دانشگاه علامه طباطبایی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز جنوبی به سه جمهوری مستقل تقسیم شد که از همان ابتدا جمهوری اسلامی ایران این کشورها را به رسمیت شناخت. به دلیل شرایط اقتصادی و نیاز این کشورها به ارتباط تجاری با همسایگان، روابط اقتصادی ایران با کشورهای قفقاز جنوبی دوران بسیار طلایی را سپری کرد تا جاییکه ایران در صدر تجارت کشورهای منطقه با دنیای خارج از خود را شامل میشد و از این طریق قرابت فرهنگی و ارتباطات قومی و تمدنی بسیاری ایجاد شد که ماحصل آن میتوان به احیای بسیاری از آداب و رسوم و اشتراکات فرهنگی متقابل مردم ایران و مردم قفقاز جنوبی اشاره کرد.
در پی نفوذ برخی قدرتهای غربی و منطقهای و تلاش آنها برای جانشینی در جایگاه اقتصادی ایران و تصاحب رتبه تجارت کشورمان با کشورهای قفقاز جنوبی، روابط فرهنگی نیز سیر نزولی به خود گرفت. این گسستگی اقتصادی باعث شده فرهنگهای رقیب جایگزین فرهنگهای مشترک دو منطقه شوند.
نگاه به فرهنگ به عنوان يك صنعت، نيازمند سرمايهگذاري و اقدامات هزينهاي اقتصاديست. ايجاد سبك زندگي الگو از طريق كارآمدي اقتصادي از زمینههای تأثیرگذاری دیپلماسی اقتصادی بر شاخصههای فرهنگی است. همچنین مراودات اقتصادي بيشتر به وابستگي متقابل بيشتر منجر شده كه به طور طبيعي به درهمتنيدگي مردمان و اختلاط ميان آنها میانجامد. الگوهاي توسعه، فرهنگآفريني متفاوتي دارند زیرا بار فرهنگي و اجتماعي همواره بر بستر اقتصادي استوار است. تجربه روابط ایران و کشورهای منطقه قفقاز جنوبی هم نشان داده که هرگاه روابط اقتصادی متقابل پر رونق بوده، روابط فرهنگی آنها نیز متأثر از تعاملات اقتصادی بوده است.
در نوشتار حاضر تلاش میکنیم جایگاه توسعه روابط اقتصادی را در توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای قفقاز جنوبی(آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) مورد بررسی قرار دهیم. نوشتار حاضر با استفاده از چارچوب نظری لیبرالیسم میکوشد نشان دهد که روابط فرهنگی ایران و همسایگانش در قفقاز جنوبی تابعی از دیپلماسی اقتصادی آنهاست.
تاثیر بینش «مهری» در معماری معابد سنگی قفقاز
مطالعه موردی(معابد سنگی کاپادوکیه ترکیه و اوپلیستیخه گرجستان)
فرشته آذرخرداد، علی زارعی
کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه بیرجند
استادیار و عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
منطقه قفقاز به دلیل اعتقادات و فرهنگ اشتراکات زیادی با ایرانیان دارند از جمله پرستش مهر و آناهیتا که معمولا در بلندی ها به نیایش آنان می پرداختند . معابد سنگی کاپادوکیه در ترکیه و پرستش ایزدانی چون مهر و آناهیتا در این منطقه، و شباهت معماری معابد سنگی اولیستیخه گرجستان با کاپادوکیه ، نگارندگان را بر آن می دارد تا تاثیر بینش مهری را در ساخت معابد سنگی این منطقه بررسی کنند . بقایای نیایشگاه باستانی اوپلیستیخه در گرجستان و کلیسای قرن چهارم میلادی بر فراز تپه ای در همین مکان، همچنین آثار ایزدان مهر و آناهیتا در کاپادوکیه نشان دهنده حضور آیین مهر و برهم کنش با فرهنگ مسیحی و بومی منطقه را نشان می دهد. رسم برپایی معابد برفرازکوهها و تپه ها وتبدیل آن به کلیسا و صومعه های قرون اولیه میلادی ازاین باورها برخاسته است.چنانکه نمونه های آن در زیارتگاه های بیشماری بر تپه ها وکوه هاوجود داردکه پیشینة آنان به گذشته های دور و زمان نیایش مهروآناهیتا وزرتشت باز می گردد. در مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ، می توان گفت این معابد و نیایشگاه های مورد مطالعه، به تاثیر از معابد مهری در منطقه قفقاز ساخته شده اند.
ارمنیان عکاس ایران
کفایت آریایی فر
بی گمان همسایگان محلی ، مرزی ، اقلیمی ، فرهنگی ، نژادی و زبانی از همدیگر تاثیر خواهند پذیرفت . در این میان ، علوم و فنون و هنر های گوناگون، پرچمدار این بده بستان ها به شمار می روند و نماینده ی مراودات و تاثیر و تاثُر های فرهنگی هستند و صد البته جنبه های تجاری و بازرگانی به این آمیزش ، شتاب می بخشد .
پدیده ی نوظهور عکاسی ، با شتابِ بسیار ، مرز ها را درنوردید و عکاسی بافاصله ی زمانی بسیارکم پس از اختراع آن دراروپا وارد ایران شد. ردپای عکاسان ارمنی را در شهرها و روستاهای سراسر ایران می توان یافت( البته هنگام بررسی فعالیت عکاسان شهرستان های گوناگون ایران ،ارمنیان عکاس را به جز پایتخت ، در رشت ، تبریز ،ارومیه و اصفهان بیشتر می بینیم). ارمنیان ایران با پدیده ی شگفت انگیز و جادویی عکاسی و دستگاه آن- از آن جایی که دستی درسایر هنرها داشتند- به آسانی برخورد کرده و آن را به کار بستند. به جز دولتمردانی که با عکاسی آشنا شده بودند و خارجی ها ،ارمنیان از نخستین گروه هایی بودند که به گسترش هنر عکاسی در ایران کمک کردند. سابقه ی حضور آنان در ایران به دوره شاه عباس صفوی بر می گردد.
دو تن از عکاسان ارمنی که نامشان با تاریخ عکاسی ایران پیوند خورده سوریوگین و آقایانس است.آنتوان سوریوگین حدود سال 1840 در سفارت روسیه در تهران به دنیا آمد و سالهای آغاز زندگی خود را در ایران به سر برد .
از آنجا که سوریوگین سالها در تهران زندگی کرده و همسر او ایرانی ارمنی بود ، موفق گردید تا به طبقات مختلف جامعه دستیابی پیدا کند. سوریوگین به خاطر تکچهره های خوبی که می گرفت ، عکاس عالیمرتبه دربار ناصرالدین شاه و جانشینانش تا حتی رضاشاه گردید »
آقایانس نیز اهل تبریز بود و اغلب در زیر عکسهایش به فرانسه نوشته شده :
« عکاسخانه ی آقایانس و مسیو کمپانی در مملکت محروسه ایران .» تعدادی از عکس های آقایانس در آلبوم خانه ی کاخ گلستان نگهداری می شود از این تعداد بخشی مربوط به عکسهای گیلان – رشت و انزلی – می باشد.
در رشت ، تبریز ، اصفهان و ارومیه نیز نخستین عکاسان ، اغلب ارمنی بودند و به گسترش عکاسی در میان مردم کمک کردند .
بر پایه ی پژوهش های کتابخانه ای و میدانی و عکس هایی که ازآلبوم های شخصی به دست آوردم ، این مطالب شایان توجه و توضیح بیشتر است .
چالشهای پیادهسازی الگوهای غربی در سیاستگذاریهای قومی-زبانی در ایران
گارنیک آساطوریان
رئیس دانشکدۀ شرقشناسی دانشگاه روسی-ارمنی(اسلاونی)، ایروان، ارمنستان
کشور ایران یک ساخت طبیعی سه هزار ساله است که در طول تاریخ همواره یکپارچگی خود را حفظ کرده وحتی بافت نژادی آن نیز در طول این سه هزار سال - یعنی پیش از ورود آریاییها به فلات ایران تا زمان حاضر- تغییر چندانی نکرده است.
ولی متأسفانه پیادهسازی بعضی الگوهای غربی در سیاستگذاریهای قومی-زبانی در ایران و استفاده از اصطلاحاتی مانند «اکثریت»، «اقلیت»، «زبان مادری» و ... که در سالهای اخیر در برخی محافل روشنفکری ایران باب شده، آثار مخربی در عرصههای مختلف حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این ملت یکپارچه بر جای گذاشته و به سوءبرداشتهای بسیاری دامن زده است، به طوری که اغلب کژفهمیها و هویتهای کاذبی که در این کشور در حال شکلگیری است حاصل همین سوءبرداشتهاست.
تاثیر جغرافیا و فرهنگ بومی بر هنر تعزیه در گیلان
علی اسدی
عضو هیات علمی گروه نمایش دانشگاه آزاد تنکابن
یکی از شاخصه های تاثیر گذار بر فرهنگ و هنر گیلان، عوامل طبیعی و جغرافیایی است. گیلان به جهت برخورداری از طبیعیت متنوعی در زمینه های مخلف فرهنگی و انسانی بیش از سایر مناطق ایران از این ویژگی تاثیر پذیرفته است. با آن که هنر تعزیه ریشه در فرهنگ تشیع دارد، اما به نظر می رسد این آیین به شیوه های دیگر در بستر فرهنگی گیلانِ پیش از اسلام رواج داشت و بعدها با گسترش فرهنگ تشیع، تعزیه به عنوان هنری مذهبی – ملی به عنوان یکی از ابزارهای تداوم فرهنگ تشیع در این سرزمین بوده است. علاوه بر عامل اقلیم، تعزیه گیلان از نظر ساختار شناسی بسیاری از مفاهیم و درون مایه های خود را از فرهنگ عامه و سنت های موجود در این سرزمین به عاریت گرفته است. به طوری که می توان نمایش تعزیه را به نوعی تطور فرهنگی گیلان به شمار آورد. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا ضمن پژوهش در زمینه تعزیه گیلان، عوامل موثر بر میزان تاثیر گذاری نمایش تعزیه در گیلان را مورد پژوهش قرار دهد. روش پژوهش در تحقیق حاضر علاوه بر روش ژرفا نگر از روش کتابخانه ای نیز در پژوهش استفاده می شود.
واکنش دولت ایران با ﻣﺴﺌﻟﻪ ورود مهاجرین قفقاز در دوره پهلوی اول
مهدی اسدی
استادیار دانشگاه شهیدباهنر کرمان
آمدن تعداد زیادی از اتباع قفقاز )ایرانی و روس) که در منابع آن دوره با اصطلاح مهاجرین قفقاز یاد شده است، به داخل مرزهای ایران از ابتدای حملات بلشویکها به منطقه قفقاز آغاز و تا سالهای پایانی دوره پهلوی اول ادامه داشت. رویه دولت ایران نسبت به این مهاجرین تا نیمه نخست پهلوی اول دوستانه بود و آنان میتوانستند در محل دلخواه خود ساکن شوند. از اواخر سال 1031 بنا به دلایلی رویه دولت ایران با مهاجرین تغییر یافت. دولت شوروی نیز مدتی بعد با بهانه های واهی بسیاری از اتباع ایرانی مقیم قفقاز را که از دوران روسهای تزار ساکن این منطقه شده بودند، اخراج و به سمت مرزهای ایران فرستاد، واکنش دولت ایران نسبت به این مهاجرین از این زمان همانند روال سابق نبود.
پرسش اصلی پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای صورت گرفته پاسخ دادن به علل تغییر موضع دولت ایران و نحوه برخورد با مسئله مهاجرین است. یافته های پژوهش نشان میدهد انتشارات خاطرات آقابگف و اقدامات دولت شوروی علیه امنیت ملی ایران بخصوص استفاده از جاسوسان مختلف در تغییر نگرش دولت ایران نقش مهمی داشت.
بررسی علل و عوامل موثردرتوسعه یا عدم توسعه روابط
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان
محمدحسین اسماعیلی سنگری
استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه گیلان- گروه علوم سیاسی
قفقاز و حوزه جنوبی آن از دیرباز یکی از بحرانخیزترین مناطق جهان به شمار میرفته است. درعینحال مهمترین، حساسترین و پیچیدهترین مناطق دنیاست. بافت قومی ـ جمعیتی این منطقه بسیار درهمتنیده است.
نوع روابط ایران و ارمنستان در منطقه قفقاز با اعتقادات مذهبی مختلف بهعنوان الگو در سطح ارتباطات بینالمللی تلقی میشوند. سطح روابط دو کشور درواقع اثبات نموده است که علیرغم اعتقادات مذهبی مسیحی – اسلامی چگونه میتوان در بالاترین سطح روابط بینالمللی همزیستی منطقهای داشت. همچنین با درک عوامل پایدار توسعه، مستمراً سطح روابط را ارتقاء داد. در این شرایط و با درک این واقعیت، مقاله حاضر درصدد است تا عوامل توسعه یا عدم توسعه در روابط فیما بین ایران – ارمنستان را با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانهای و اسنادی و اینترنتی موردبررسی قرار دهد. یافته مقاله عبارت است از اینکه بین سطح روابط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ایران- ارمنستان رابطه همبستگی و همگرایی وجود دارد.
نکاتی چند دربارۀ جاینامهای شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی
سروش اکبرزاده
دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)، ایروان، ارمنستان
عناصر کهن زبانی یک منطقه را همواره میتوان در اسامی عوارض جغرافیایی آن سرزمین سراغ کرد. خطۀ آذربایجان نیز که در برههای از تاریخ دچار تغییر و تحول زبانی شده است از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از عوارض جغرافیایی استان آذربایجان یادآور زبان کهن مردم این منطقه، پیش از تغییر زبان محلی و جایگزین شدن زبان ترکی است. حتی جاینامهایی نیز که ظاهراً ترکی به نظر میرسند به هیچ وجه اصل و نسب ترکی نداشته و تنها حاصل برگردان نام باستانی این عوارض جغرافیایی به زبان ترکیاند.
نگارنده در این مقاله کوشیده است با رجوع به منابع تاریخی و متون جغرافیایی فارسی و عربی، نام کهن برخی عوارض جغرافیایی شهرستان ورزقان را روشن سازد و ریشهشناسی قانعکنندهای برای آنها ارائه دهد.
بررسی نام آواها در تعدادی از گویش های غرب گیلان
عفت امانی، فاطمه محمودنژاد
گویش گیلکی از گویشهای حاشیۀ دریای خزر و از شاخۀ زبان ها و گویشهای ایرانی نو غربی است که خود به سه دستۀ عمدۀ گیلکی بیه پیش، گیلکی بیه پس و گیلاکی گالشی تقسیم می شود. تحقیق حاضر به بررسی نام آواها در تعدادی از گویشهای گونۀ گیلکی بیه پیش می پردازد. به این منظور 7 گویش گیلکی سیاهکل، چابکسر، لاهیجان، لنگرود، آستانۀ شرفیه، املش و رود سر از این گونه به عنوان گویش های هدف انتخاب شدند. پژوهشگران در فاصلۀ زمانی زمستان 9 تا پاییز 96، با استفاده از روش تحقیق میدانی و مصاحبۀ حضوری با بیش از 200 گویشور، پیکرۀ زبانی حاوی بیش از 3 هزار واژه (مقولۀ اسم) مشترک در میان این 7 گویش را تشکیا دادند. آنها سپس با بررسی توصیفی داده های موجود، اسم های که از مقولۀ نامآوا بودند را در این پیکره مشخص کردند. مقالۀ خاضر به مطالعه این نام آواها می پردازد و بعد از بررسی هم کدام از آنها از لخاظ ریشۀ تاریخی، ساختار این نام آواها و نماد طبیعی تقلید شده برای ساخت هر کدام را مشخص می کند. در نهایت نیز هر کدام از این نام آواها با نمونه های مشابه موجود در گویش فارسی مقایسه می شود.
آیین زروان به روایت یزنیک کوقباتسی
حمید امیدی
دانشآموخته فلسفه، ایران شناسی و روابط بین الملل (دکتری تخصصی)
زروان (zarvan) نام زمان بیکران است و تمام تغییراتی که جهان از روز نخست تا پایان به خود میبیند حاصل اراده اوست آیین زروان را اگر چه جریانی انحرافی در دین زرتشت آیین دیرینه ایرانیان میدانند اما میتوان در واقع آن را قرائتی دیگر از دو اصل خیر و شر دانست که این آیین بر آن استوار بود
زمان بی کران همچون خدای تاریخ هگل سنگدل ترین خدایان است که ارابه پیروزی خود را از روی اجساد کشته شدگان می راند و تمام حوادث رخ داده در مسیر تاریخ جهان را در سیطره خود میبیند در نتیجه انسان و جامعه فاقد اراده پیش برنده در تاریخ می شوند انسان ها در این اندیشه صاحب حق نیستند بلکه سهم خود را از جهان می گیرند که بر اساس شیت زمان بیکران یعنی زروان تعیین شده است
یزدگرد دوم پادشاه ساسانی برای جلوگیری از نفوذ سریع مسیحیت در میان ارمنی ها در ارمنستان به ترویج آیین زروان پرداخت و از آن روزگار نبرد سردمداران مسیحیت ارتدوکس ارمنستان با این آیین آغاز شد پس از نشست مذهبی موسوم به شورای آرتاشات که در آن جوابیه یزدگرد دوم آماده شد این یزنیک کوقباتسی بود که بخش زیادی از کتاب جدلی خود موسوم به آقاندوتس یعنی رد فرق و مذاهب را به انتقاد از آیین زروان اختصاص داد وی رساله خود را با داستان زروان آغاز میکند که به نظرش تنها حقیقت پس از آفرینش اهورامزدا و اهریمن فرزندان این زمان بیکران اند زروان هزار سال نیایش کرد و هفت هزار سال قربانی کرد تا اهورامزدا زاده شود اما این اهریمن بود که زودتر پای به جهان میگذارد و موجبات حیرت زروان می گردد در واقع شک در نیایش برای باروری خویش و زاده شدن اهورامزدا موجبات زاده شدن اهریمن را فراهم می آورد و برای ماندن بر عهد خویش نخست 9 هزار سال اهریمن را حاکم بر جهان می کند و پس از آن فرمانروایی بر جهان را به اهورامزدا واگذار میکند
انتقاد یزنیک کوقباتسی بر داستان زروان این است که خدا کمال مطلق نیست چون از وجود اهریمن به عنوان فرزند دیگر آگاه نبود و ثانیا هفت هزار سال قربانی برای داشتن اهورامزدا جز به معنای این است که کمال مطلق دیگری وجود داشت که زروان قربانی را به پای او انجام داده است
اصولاً چرا زروان در حالی که می توانست چنین نکند اما شر را برای حاکمیت بر جهان برگزید و بر عالم سروری داد و سوال مهم تر اینکه چرا خود به آفرینش نپرداخت و در انتظار اهورامزدا برای آفرینش عالم ماند اگر بپذیریم که اهریمن خدای آفریننده بدی های عالم است چنان که این آیین بر دو پایه خیر و شر استوار است چرا از زاده شدن اهریمن مبهوت شد و اصولاً در انتظار این زاده شدن نبود، مگر اهریمن در کنار اهورامزدا خیر و شر را در جهان عینیت نمی بخشید
خلاصه اینکه به نظر یزنیک کوقباتسی خدا در آیینه زروان خدایی ایستاست پویایی ندارد، خیر مطلق نیست و کمال حقیقی محسوب نمیشود و البته تمام تلاش او این است که بگوید تمام زاده شدن اعم از خیر و یا شر منسوب به یک خدای واحد هستند چنانکه مسیحیت می گوید
این مقاله روایتی است از آیین زروان بر اساس آنچه که یزنیک کوقباتسی میاندیشیده است و پاسخ هایی که می توان به جدلیات وی درباره زروان داد این مواجهه را باید نخستین تلاقی فکری جهان ایرانی و جهان ارمنی دانست که یزنیک کوقباتسی آن را رقم زده است
تجزیه و تحلیل نگرش سیاحان ایتالیایی از نگرش های فکری و فرهنگی ایرانیان ( باتکیه بر گزارش های عصر صفویه و قاجار)
سارا باقری
دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه گیلان
سیاحان و بازرگانان ایتالیایی نخستین گروه از اروپائیانی بودند که سده ها پس از تسلط اعرابِ مسلمان بر مدیترانه شرقی توانستند با حکومت های ایرانی ارتباط برقرار نمایند. بیگمان مهمترین انگیزه های اولیه آنها برای نفوذ در دربار حکومت های ایرانی، مساله سیاست و سپس بسط تجارت آنان با شرق بوده است. از نیمه دوم سده پانزدهم میلادی به جهت هجوم ترکان عثمانی موجودیت کشورهایی که در بالکان و حوزه مدیترانه زندگی می کردند توسط ترکان به خطر افتاد در نتیجه ایتالیایی ها با هدف برانگیختن دولت های ایرانی علیه عثمانی ها و ایجاد جبهه جدیدی در برابر آنان تلاش های زیادی انجام دادند. اما از اواخر سده هفدهم م. با کم شدن خطر عثمانی ها انگیزه تجارت و سیاحت در گزارش های آنان جلوه بارزتری می یابد و در دوره قاجار نیز محتوای سفرنامه های آنان بیشتر با تکیه بر شاخصه های مردم شناسی است. با وجودی این که اهداف سیاحان نخستین ایتالیایی بیشتر بر مبنای مولفه های سیاسی بوده است، با این حال آنان به به مسائل فرهنگی،مردم شناسی و فرهنگ و آداب و رسوم توجه ویژه ای در آثار خود نشان داده و سعی نموده اند در برخی موارد به تطبیق سنت های مردم ایران و فهنگ و آداب و رسوم خود بپردازند. در پژوهش حاضر نگارنده تلاش دارد تا با تجزیه و تحلیل سفرنامه های ایتالیایی در عصر صفویه و قاجار رویکرد آنان نسبت به شاخصه های فرهنگی جامعه ایران در دوره های یاد شده را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش در مطالعه پیش رو با تکیه بر روش تاریخی و استنتاج داده ها به شیوه مطالعات کتابخانه ای است.
نقش گزارش های یقیکیان ارمنی در تاریخ نگاری جنبش جنگل
عباس پناهی
عضوهیات علمی گروه تاریخ پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان
با این که درباره جنبش جنگل گزارش های متنوعی از این واقعه منتشر شده است، اما اغلب گزارش ها از سوی شاهدانی نوشته شده است که از نظر مشی سیاسی به گونه ای در دسته بندی های جنبش جنگل قرار گرفته و جزو موافقان و یا مخالفان این جریان می باشند. در حالی که یقیکیان به صراحت جانب هیچ گروهی را نمی گیرد و سعی دارد دیدگاهی مستقل و بی طرف از جنبش جنگل ارائه دهد. با این وجود شخصیت یقیکیان و گرایش های سیاسی وی در هاله ای از ابهام است. وی سال های زیادی در قفقاز و روسیه سپری کرد و سرانجام هم زمان با حوادث مشروطیت به گیلان قدم گذاشت. فعالیت فکری و سیاسی یقیکیان نقش موثری در جامعه ارمنی و همچنین گیلانیان روشنفکررشت و انزلی در پی داشت. هم زمان با شکل گیری جنبش جنگل، وی به عنوان شاهدی عینی از بیرون به جمهوری شورایی جنگل نگریسته است. به همین سبب نگاه او به جنبش جنگل و گزارش هایی که ارائه می دهد، اهمیت بسیاری دارد. یقیکیان گزارش های مربوط به شوری و جنبش جنگل را از ورود بلشویک ها به ایران آغاز می کند و با دقت و بدون جانبداری خاصی به شرح وقایع و حوادث جنبش جنگل می پردازد. او به جهت ارتباط با سران جنبش و کارگزارن شوروی توانسته است به خوبی به ریشه یابی بسیاری از حوادث بپردازد. یقیکیان از نزدیک شاهد رنج و درد مردم گیلان در طول وقایع جنبش بوده است و این نکته در گزارش های وی اشاره شده است. وی همچنین گزارش های ارزنده ای از چگونگی قدرت گیری بلشویک ها در رشت و گیلان ارائه می کند. با توجه به نقش شوروی در دوره سوم جنبش جنگل و تاکید یقیکیان بر این مساله، نگارنده سعی دارد،دیدگاه یقیکیان وشیوه گزارش و تاریخ نگاری وی را از حوادث جنبش جنگل را مورد ارزیابی قرار دهد.
نقش سوسیال دموکرات های قفقاز بر رشد اندیشه های انقلابی در گیلان
عباس پناهی
عضو هیات علمی گروه تاریخ پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان
جغرافیای گیلان به دلیل واقع شدن در مسیر اروپا از طریق قفقاز یکی از مراکز مهم خیزشهای مردمی در انقلاب مشروطیت ایران بوده است. از سوی دیگر وضعیت نظام زمینداری گیلانِ عصر قاجار و ریشه دار بودن جنبش های دهقانی بستر مناسبی برای رشد اندیشه های سوسیال دمکراسی و آزادی خواهان قفقازی در رشت را فراهم آورد. مساله دیگری که به رشد اندیشه های انقلابی و سوسیال دمکراسی گیلانیان کمک نمود، مسافرت عده زیادی از مردم گیلان با انگیزه کار در معادن نفت و صنعتی قفقاز بود. همین امر موجب مهاجرت عدهای از ایرانیان برای یافتن آزادی نسبی و درآمد بهتر، به قفقاز گردید. زیرا شرکتهای نفتی و معادن مس و سنگ موجود در قفقاز بستر خوبی برای اشتغال مهاجران فراهم آورده بود. تداوم حضور این تعداد گسترده از ایرانیان موجب آشنایی بیشتر آنها با اندیشه های انقلابی که در این منطقه از فعالیت خوبی برخوردار بودند و انتقال این دستاورد های نوین فکری به ایران به ویژه گیلان و تبریز بود. در نتیجه برخی از چهره های انقلابی ایرانی، انجمنی در باکو بهنام «اجتماعیون ـ عامیون» تشکیل دادند که بعدها برخی از اعضای سرشناس آن در ساماندهی و قدرت یافتن انجمنهای سیاسی گیلان مانند «ستار» در رشت و «برق» در انزلی نقش بنیادین داشتند و بعدها برخی از رهبران این انجمن ها در حوادث سرنوشت ساز مشروطه گیلان نقش های اساسی ایفا نمودند. قفقازی ها علاوه بر تشکیل نهاد های سیاسی خود در رشت و انزلی در فعالیت ها نظامی نیز مشارکتی فعال داشتند. نگارنده در پژوهش حاضر به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشههای متفکران قفقازی بر رشد اندیشههای انقلابی در گیلانِ عصر مشروطه می پردازد.
بهمن میرزا قاجار و گسترش ادبیات فارسی در قفقاز
محمدحسین پور رستم هرمزیاری
دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)، ایروان، ارمنستان
در میان عامه مردم و حتی فرهیختگان کمترکسی از خدمات بهمنمیرزا قاجار در راستای گسترش ادبیات فارسی آگاه است. بهمن میرزا برخلاف برخی از شاهزادگان قاجار نه تنها دانشمند بلکه فردی فرهیخته بود که دارای کتاب خانه ای عظیم از کتب ادبی و علمی ان روزگاز از زبان های عربی ، ترکی، ارمنی و فارسی بود که شاید در دوره خود یکی از گرانبها ترین کتاب خانه های شخصی بحساب میآمده است. هر چند به دلایل سیاسی و ترس از جان مجبور به پناهندگی به روسیه شد و تا آخر عمر در شهر شوشی قره باغ زیست ولی همواره در حال تلاش برای حفظ و نگه داری آثار خطی آن دوره بود.
از مهمترین آثار ادبی فارسی که به همت بهمن میرزا تهیه شده میتوان به اولین نسخه ترجمه شده از داستان های هزار یک شب اشاره کرد که به دستور او توسط ملا عبداللطیف طسوجی به فارسی برگردانده شد و اشعار عربی این ترجمه نیزتوسط محمد علی خان اصفهانی متخلص به سروش شمس الشعرا اصفهانی به فارسی سروده و جاگزین گشته است .
کتاب تذکره محمد شاهی تالیف خود بهمن میرزا هم که چند نسخه خطی آن در ایران و جمهوری آذربایجان وجود دارد کتابی ارزنده است که اطلاعاتی از شاعران منطقه قفقاز به ما می دهد که شاید شناخته شده نباشند و میتوان عمق و درک درستی از ادبیات پارسی و تأثیر آن در منطقه قفقاز یافت.
از دیگر آثار و شاید ناشناخته ترین آثار بهمن میرزا میتوان به کتاب زادالمعاد اشاره کرد که جدای از بحث ادبی در حوزه هنر مینیاتور و حاشیه نگاری کتابی نفیس و ارزنده است که در بخش نسخ خطی ارزنده موزه ماتنداران نگه داری میشود و در دهه 70 میلادی به این موزه هدا شده است.
شوق بهمن میرزا در گرد اوری نسخ خطی و همت او برای بدست آوردن نسخه و یا کپی برداری از کتب آن روزگار برای محققین امروز ادبیات فارسی و حتی دیگر زبان های منطقه قفقاز گنجینه ای نفیس و ارزنده به ارمغان اورده که دسترسی به آن میتواند گوشه های پنهان ادبیات منطقه قفقاز را آشکار سازد.
بررسی پروگرام درسی مدارس ایرانی قفقاز (1917-1905 م)
افسانه تندرو
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
به دلیل حضور کارگران و تجار ایرانی در منطقه قفقاز جنوبی، اندیشه به وجود آمدن مدارس ایرانی در اذهان ایرانیان مقیم در قفقاز شکل گرفت. با مذاکرات به عمل آمده به وسیله اندیشمندان و تجار ایرانی با کنسولگری ایران در باکو در اوایل قرن بیستم، قرار بر این شد که مدارس ایرانی در باکو، گنجه، تفلیس، باتومی، نفتالان، صابونچی و لنکران شکل گیرد. با وجود همه اقدامات طاقت فرسا و تامین مالی فقط بخشی از این مدارس به مرحله عملیاتی رسید و مابقی به دلیل کارشکنی های صورت گرفته دچار مشکل شد. این مدارس نه تنها به جذب فرزندان ایرانیان اقدام کردند بلکه تعداد غیرایرانی نیز در میان این مدارس جلب توجه می کرد. از آن جایی که عموم ایرانیان مقیم قفقاز ترک زبان بودند پروگرام این مدارس بر پایه فرهنگ ایرانی -اسلامی و علوم مختلف علمی-دینی با تکیه بر زبان فارسی بود به طوری که با ایجاد تعلق خاطر فراوان به شریعت ۱۲امامی و حس وطن پرستی در میان دانش آموختگان پس از اتمام تحصیل مانع جذب آنها به وسیله سیاست های پان ترکیستی عثمانی شوند.
این مقاله سعی دارد با تکیه بر اسناد ایرانی به ویژه اسناد وزارت خارجه به بررسی پروگرام درسی بین این مدارس ایرانی در قفقاز در فاصله 1905 م تا هنگام انقلاب روسیه (1917 م) بپردازد.
نقش و ویژگی نخبگان در خصوص همگرایی قومی منطقه قفقاز
محمود جنیدی جعفری
پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
همگرایی قومی یکی از مهمترین عوامل سبک زندگی اجتماعی انسان است که به واسطه آن هویت هر ملتی شکل یافته و بقا و تداوم آن در طول زمان میسر می شود. بر همین اساس با توجه به تاریخ و تمدنی که در منطقه قفقاز وجود دارد و از آنجا که شناخت منطقه قفقاز برای نسل جدید دارای اهمیت و توجه خاصی است و برای ایران یک منطقه بیگانه تلقی نمی گردد و همچنین ایجاد همگرایی قومی از چنان اهمیتی برخوردار است که وجود نخبگان و استفاده از افکار آنها می تواند به روش ها و تدابیر لازم در جهت وحدت و همگرایی بیانجامد بدور از هرگونه خشونت و ناملایماتی که معمولا در بعضی از جوامع برای حفظ وضعیت موجود به روش ها و تدابیری روی می آورند که مغایر با اصول و منش همگرایی است . لذا شناخت متغیرهای موثر بر آن بسیار قابل توجه است. در این مقاله تلاش شده تا ویژگی های نخبگان بررسی و عوامل موثر بر همگرایی قومی در منطقه مورد تبیین قرار گیرد .
اشتراکات فرهنگی شمال ایران و منطقهی قفقاز در قرون اولیه میلادی: مطالعهی موردی محوطهی باستانی لیارسنگبن _ گیلان
ولی جهانی، سجاد سمیعی
نویسنده مسئول؛استادیارگروه باستانشناسی و میراث فرهنگی
کارشناسارشد باستانشناسی،پژوهشگرآزاد
با وجود اینکه منطقهی شمال ایران از دیرباز بخشی از سرزمین وسیع ایران بوده و هماینک نیز در مرزهای سیاسی ایران قرار دارد اما به دلیل تفاوتهای اقلیمی مابین شمال و جنوب رشته کوه البرز همواره تفاوتهای ساختاری در فرهنگ دو منطقه وجود داشته است. در عینحال که شمال ایران از نظر اقلیمی متفاوت از سایر مناطق ایران است، شباهتهای اقلیمی بسیاری با منطقهی قفقاز دارد و در واقع این دو منطقه از نظر فرهنگی و اقلیمی در امتداد هم قرار دارند. با توجه به شباهت بسیار زیادی که میان منظر طبیعی منطقهی شمال ایران و قفقاز وجود دارد، این دو منطقه تا دوران معاصر همواره دارای ارتباطات فرهنگی بودهاند. علاوه بر شباهتهای اقلیمی که میان شمال ایران و منطقه قفقاز وجود دارد، رشتهکوه البرز و دریای کاسپی شاهراهی طبیعی را به وجود آورده است که منطقه شمالی ایران را به منطقهی قفقاز ختم میکند و در طول تاریخ مسیری را به وجود آورده، که مورد استفاده ساکنان دو منطقه بوده است. این راه ارتباطی مهم، محصولات فرهنگی این مناطق را در دو منطقه پراکنده کرده که شواهد باستانشناختی نیز از آن حکایت دارد. در قرون اولیهی میلادی جنگهای زیادی میان امپراطوری ایرانی و امپراطوری روم شرقی برای تصاحب سرزمین ارمنستان که بخش وسیعی از منطقهی قفقاز را تشکیل میداد، بهوجود آمد. در این بین مردمان جنگجوی ساکن شمال ایران از این فرصت کمال استفاده را کرده و به عنوان مزدور برای دو طرف جنگ به مبارزه میپرداختند که شواهد آن را میتوان در تعدادی از محوطههای شمال ایران مشاهده کرد. ازجمله مهمترین محوطههای شاخص این دوره که شواهد بسیاری از این ارتباطات فرهنگی میان منطقهی شمالی ایران و قفقاز در آن وجود دارد محوطهی باستانی لیارسنگبن است که به تازگی مورد کاوش باستانشناختی قرار گرفته است. دادههای فرهنگی لیارسنگبن شباهتهای ماهیتی و آئینی زیادی با منطقه قفقاز دارد که لازم است بیش از پیش مورد مطالعه و معرفی قرار گیرد تا زوایای جدیدی از این ارتباطات فرهنگی میان این دو منطقه روشن شود. پژوهش حاضر با معرفی محوطهی مذکور و مطالعهی تطبیقی این محوطه با یافتههای باستانی مکشوفه از منطقهی قفقاز به بررسی ارتباطات فرهنگی این مناطق پرداخته است.
آرشیوهای قفقازی نقد ادبی ایران
رضا چراغی
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
مطابق رویکرد نظری میشل فوکو، فیلسوف معاصر فرانسوی صورتبندیهای دانش و نظریه در حوزههای سیاسی اجتماعی و ادبی غالباً وجوه گفتمانی و برساختی و بازنمایانه دارند. نقد ادبی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نقد ادبی یک دوره گزارههایی خاص در ارتباط نظاممند با هم یا مفصلبندی گفتمانی، بازتولید و تثبیت میشوند . برای مثال میتوان به تلقیهایی خاص از رابطة ادبیات و اجتماع، زبان ادبی، تخیل ادبی، ساختار ادبیات و غیره اشاره کرد. روش تبارشناسی فوکو این است که عموماً برای بررسی گزارههای گفتمانی به سرچشمهها و آرشیوهای آنها رجوع میکند و شیوههای تثبیت و طبیعیسازی آنها را شفاف میکند. این پژوهش نیز در پی ردگیری تبارشناختی یا آرشیوشناسی گزارههای غالب نقد ادبی ایران، در حوزه فرهنگی قفقاز در قرن نوزدهم است. به طور مشخص سرچشمههای نقد ادبی ایران و تلقیهای خاصی که دهها سال در زمینه کارکرد سیاسی و اجتماعی، اخلاقی، زبانی، ساختار و دیگر عناصر ادبیات تداوم یافته، در نیمه دوم قرن نوزدهم در قفقاز شکل گرفته است.
این گزارهها که ریشه در نقد اجتماعی و نئوکلاسیک قرن هجده فرانسه و اندیشههای نهضت روشنگری دارند، در جریان تبادلات فرهنگی و سیاسی روسیه و فرانسه از قرن هجدهم وارد فضای ادبی روسیه شدند. منتقدان روسی نیمه دوم قرن نوزدهم نظیر بلینسکی، پیساروف، دابرالیوف و به ویژه چرنیشفسکی، این آرا را با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی روسیه گسترش دادند و جنبه رئالیستی آن را برجسته کردند.
روشنفکران و نویسندگان ایرانی قرن نوزدهم نظیر میرزا ملکمخان، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا حبیب اصفهانی، میرزا آقای تبریزی، میرزا عبدالرحیم طالبوف و ... عموماً از طریق میرزا فتحعلی آخوندزاده که او را بنیانگذار نقد جدید ادبی در ایران و پدر روشنفکران ایرانی نامیدهاند، با این آرا آشنا شدند. آخوند زاده از نزدیک با آرای بلینسکی آشنا بود و با سه منتقد دیگر مراوده و دوستی داشت. بسیاری از گزارههای ادبی که شاید تا امروز به عنوان احکام تخطی ناپذیر پذیرفته شدهاند، توسط وی و متأثر از نقد ادبی روسیه و قفقاز وارد فضای نقد در ایران شد.
برای مثال رویکرد داروینی نخستین بار از همین طریق وارد نقد ایران شد یا نگاه روسی- کلاسیک آخواندزاده در باره ادبیات نمایشی از طریق او به میرزا آقای تبریزی و دیگران انتقال یافت. در این مقاله نمونههای مشخصی از آرای آخوندزاده منتقدان روسی مقایسه خواهد شد.
جایگاه و اهمیت اشتراکات و پیوندهای فرهنگی میان ایران_قفقاز در عصر جهانی شدن
سید قاسم حسنی
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران -بابلسر
استادیار و عضوهیات علمی مردم شناسی دانشگاه مازندران
پرسش اساسی این مقاله آن است که چگونهاشتراکاتفرهنگی و شواهد درون آن در یک حوزه یا پهنه جغرافیایی به عنوان سرمایه فرهنگی می تواند نقش عمده ای در تقویت پیوند و روابط فرهنگی یک منطقه در عصر جهانی شدن داشته باشد؟ چرا این اشتراکات در روابط بین فرهنگی در عصر جهانی شدن ضرورت دارد؟ امروزه یکی از راهبردهای اساسی کشورهای منطقه برای دستیابی به منافع متعدد، ایجاد اتحادیه ها و سازمان های مشترک است. بسیاری از این همگرایی ها پس از جهانی شدن تاکید بر اقتصاد دارد. اما در برخی از مناطق می توان از پتاسیل های قدرتمند تر برای ایجاد پیوند منطقه ای استفاده کرد. در جغرافیای فلات ایران کشورهایی هستند که می توان در دو حوزه ایران و قفقاز مشخص ساخت. با توجه به این که از نظر تاریخی این کشورها در فلات ایران قرار داشته اند دارای مشترکات فرهنگی-تاریخی اند. امروزه با ورود به جهانی شدن ، استراتژی ها و راهبردهایی برای پیوندها و روابط توسط برخی از کشورها شکل یافته است که برای منافع اقتصادی و یا گسترش نفوذ منطقه ای استفاده می کنند. از دهه 1990 به بعد در این منطقه شاهد پیوندهایی در قالب اقتصاد با کشورهای منطقه قفقاز هستیم. آنچه که در این پیوند ها کمتر دیده می شود توجه به اشتراکات و پیوندهای تاریخی در حوزه فرهنگ است.
ایران و کشورهای حوزه قفقاز از یک سری امتیازات برخوردار اند که می تواند نقش عمده ای در بازتولید روابط جدیدتر با تاکیدی بر فرهنگ_ تاریخ و مشترکات درون آن داشته باشد. در عصر جهانی شدن یکی از معینه هایی که می تواند به عنوان ابزار برای پیوند های مجدد استفاده شود فرهنگ و تاریخ است که اتفاقا مردم استقبلا می کنند. به عنوان مثال: 1-هم آیینی و هم کیشی 2- نزدیکی و همجواری جغرافیایی 3- اشتراکات فرهنگی-تاریخی 4- اشتراکات زبانی-قومی 5-حافظه تاریخی-فرهنگی.... این عناصر مشترک فرهنگی-تاریخی در این حوزه می تواند نقش عمده ای ایجاد یک منطقه فرهنگی همگرا ایجاد کند. این مقاله سعی دارد راهبرد روابط فرهنگی-تاریخی را در حوزه منطقه ای در نظر گیرد و به عنوان تاریخ فرهنگی مشترک به عنوان سرمایه فرهنگی برای تقویت همگرایی و ایجاد اتحادیه فرهنگی مشترک منطقه ای استفاده کند.
تأثیر قفقاز بر زندگی و آثار میخائیل لرمانتف (نویسنده عصر زرین ادبیات روسیه)
لیلا خانجانی
دکتری آموزش زبان روسی، عضو هیآت علمی گروه زبان روسی دانشگاه گیلان
در مقاله حاضر تاثیر قفقاز و فرهنگ آن در آثار میخائیل لرمانتف مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی نمونهها یی از اشعار این شاعر، نمایش نامه نویس و رمان نویس، گرایش وی به قفقاز و شرق نشان داده شده است. شهرتی که لرمانتف در دنیا دارد بیشتر به خاطر اشعار پرمغز و دلچسب اوست. لرمانتف اولین بار در كودكی برای استفاده از آبهای معدنی به قفقاز سفر كرد. شاعر در دوران كودكی و نوجوانی به جمع آوری اطلاعاتی درباره قفقاز و اقوام آزادیخواه ساكن آن پرداخت. او همچنین به دلیل تبعیدش از سوی نیکلای اول به قفقاز، توانست از نزدیک با فرهنگ مردم این سرزمین آشنا شود. مفاهیمی چون آزادی و عشق به وطن در آثار شرقی او به خوبی منعکس شده است. او به طبیعت زیبای قفقاز عشق میورزید و با خلاقیتی تاثیرگذار آن را در سرودههایش به تصویر می کشید. لرمانتف در آثار خود از یک سو، فرهنگ و تمدن مشرق زمین را ارج می نهد و از سوی دیگر، نگران سرنوشت و آینده آن است و با هشدار، شرق را دعوت به بیداری می کند چرا که در آن زمان با سستی خود، موجب طمع بیگانگان شده بود. مساله شرق و بخصوص قفقاز در آثار لرمانتف کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، به همین دلیل در این مقاله از منظر ادبیات تطبیقی، سعی شده است با بیان ویژگی ها و انطباق برخی آثار لرمانتف با فرهنگ قفقاز به دیدگاهها و ارزیابی وی از این فرهنگ در دوران بحران جامعه او دست یابیم. الرمانتف در ادبیات روسی مقام بلندی دارد و با اینکه بزرگترین شاعر رومانتیک آن سرزمین شمرده میشود از بانیان رئالیسم در نظم و نثر آن کشور هم به حساب میآید، دو داستان منظوم وی میتسیری و ابلیس از شاهکارهای سرزمینش محسوب میشوند، وصفی که از مناظر زیبای طبیعت قفقاز مکرر در این دو منظومه آمده به اندازهای دلنشین و خیره کننده است که کمتر مانند آن را در ادبیات روسی میتوان یافت. آن سرکشی و عصیانی که از مشخصات رمانتیسم بایرون است و در ادبیات جهان به نام «رمانتیسم بایرون» مشهور شده به بهترین وجهی در این دو نوشته مشهود است. منظومه «ابلیس» بخصوص که حاصل تقریباً ده سال کار شاعر است از لحاظ فراوانی صحنههای بدیع و پر نقش و نگار طبیعت و وصف آداب و زندگی قفقازیها و بیان معانی لطیف و بکر عشقی و فلسفی از بهترین نمونههای منظوم به شمار میآید. «شعرش با آنکه لطیف و روان است حاوی مطالب ژرف فلسفی و روانشناسی نیز میباشد. وی نخستین کسی بود که مسائل گوناگون و متناقض یک فکر پیچیده را به شعر نغز و روان روسی درآورد و مشکلات زمان خود را در ادبیات محکم و سلیس منعکس ساخت. اراده و قوت احساس و تفکر که به نظر لرمانتف مهمترین خاصیت آدمی است، به وجه عالی در اشعار او تجلی نموده است.»(آهی، 2537) اشعار کوتاه وی، بخصوص آنچه پس از ۱۸۳۶ سروده شده از بهترین نمونه شعر روسی است. ملقب بودن لرمانتف به «ماه» ادبیات روسی (بعد از پوشکین كه ملقب به «خورشید» است) اهمیت بررسی آثارش را به خوبی نشان میدهد.
اسلام در اندیشه مشاهیر روسی
زهره خانمحمدی
پژوهشگر مسائل روسیه و کارشناس علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
یکی از مهمترین پرسشهایی که پیرامون "اسلام" مطرح میشود این است که اساساً اسلام چیست؟ و چه نوع تفکری را به انسان میآموزد؟ به بیان سادهتر، چه تعریفی از اسلام میتوان به دست داد؟ در تبیین اسلام باید گفت که اسلام یک نظریه (Theory) نیست بلکه یک شیوه و اسلوب (Method & Style) است که با قوانین طبیعت و اصول فطری که خداوند خلق را بر طبق آن آفریده، آمیخته است و برقراری جامعهای با محور "الله" در زمین را هدف خود میداند به همین سبب به وضع تعالیم جامعی در عرصههای مختلف پرداخته و آنها را در قالب و اصولی کلی قرار داده است که توانسته ویژگی خلود و بقا، تکامل، شمول و هماهنگی را برای خود فراهم کند و پاسخگوی نیازهای انسان از هزاران سال پیش تا امروز باشد.
قالب و اصول کلی اسلام را میتوان بر اساس قرآن و پیامبر اکرم (ص) تبیین نمود که نه تنها بر آراء علما و اندیشمندان مذهبی تاثیر گذار بوده بلکه نویسندگان و مشاهیر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. از جمله این افراد میتوان به نامآوران و شعرای بزرگ روسیه همچون درژاوین، پوشکین، داستایفسکی، تالستوی، بونین و ... اشاره داشت که شخصیت پیامبر اکرم و مولفههای قرآنی چون تاکید بر انسان و طبیعت، آزادسازی انسان از عبودیت و بندگی، عدالت و برابری و مبارزه با نژادپرستی جایگاه مهمی نزد آنان داشته است. گاوریلا رومانوویچ درژاوین -شاعر بزرگ روس- که سالهای کودکی خود را در قازان گذراند به ریشههای تاتار خود و ارتباط با فرهنگ مسلمانان افتخار میکند. الکساندر پوشکین نیز نخستین شاعر روس است که به تفسیر موضوعات قرآنی پرداخت و تصور وی از ترجمه قرآن در قالب مجموعه اشعار "تاسی از قرآن" بسیار حیرتآور بودکه از دیدگاه خانم کاشتالووا منبع پیدایش این اثر، ترجمه قرآن مجید به زبان روسی که ویریوکین از نویسندگان آشنا به فرهنگ شرق و اسلام در سال 1790 انجام داد، بوده است. انسان و طبیعت نیز مضامین عمده آثار اولیه ایوان بونین را شکل میدهد که همانند نقاشی ماهر به وصف آنها میپردازد. سایرین نیز در ترسیم افکار خود در قالب آثار ادبی از مولفههای قرآن و اسلام بهرهمند شدند.
در مقاله پیشرو ضمن تحلیل و بررسی برخی آثار نویسندگان مذکور، سعی بر آن است تا به چگونگی تاثیرگذاری اسلام بر اندیشه مشاهیر روس پاسخ داده شود که در این راستا میتوان به وجود مرزهای طویل و مشترک ایران و روسیه که از دیرباز زمینه ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دو ملت ایران و روس را فراهم ساخته است و همچنین مناطق مسلماننشین قفقاز در خاک روسیه و نشر فرهنگ اسلامی از این طریق اشاره کرد.
نقش ارامنه منطقه قفقاز در شکل گیری مکتب نگارگری اصفهان "با تاکید بر آثار ورضا عباسی"
اعظم دودانگه، سید رضا حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، شاه عباس صفوی که از توان اقتصادی و بازرگانی ارمنیان و شهرت آنان در این زمینه مطلع بود، بر آن شد تا گروهی از ساکنان ارمنستان را به ایران کوچ دهد و به وسیلۀ آنان ارتباط تجاری مستمری را با مسیحیان سراسر جهان برقرار سازد. در میان جامعه کوچک ارامنه کوچ کرده نخبگان و متخصصین به تناسب، هریک در حرفه اى مشغول بوده و خدماتى ارزنده به فرهنگ و تمدن اصفهان ارائه نمودند. در این بین هنرمندان ارمنی نیز دستاوردهای هنری زادگاه خود را به همراه آوردند. در میان جامعه ارمنیان مقیم، به استاد میناس نقاش ایرانی- ارمنی و معلم و مربى شخصیت طراز اول مکتب اصفهان در قلمرو نقاشی، رضا عباسی می توان اشاره کرد.
در پژوهش حاضر با تحلیل آثار میناس و رضا عباسی به بررسی تاثیر مواجهه هنرمندان ایرانی و ارامنه با آثار جدید و نیز آثار هنری منطقه جلفا و نقش آن در مکتب نگارگری اصفهان پرداخته شده است. با توجه به این هدف، دو پرسش زیر صورت بندی شده است: الف- ورود ارامنه و سلیقه خاص آنان در نقاشی و تزیین خانه ها و کلیساها چه تاثیری بر خلق آثار نگارگری مکتب اصفهان داشته است؟ ب- وجوه افتراق و اشتراک آثار میناس و رضا عباسی چیست؟ پاسخ به پرسش های فوق به روش توصیفی- تطبیقی بوده و اطلاعات مورد نیار به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نتیجه همکاری این هنرمندان، تقلید از شیو ه های غربی با تکیه بر سنتها به شکل چهره نگاری های بزرگ اندازه، استفاده از رنگ و روغن و انتخاب مضامین جدید پاسخگویی ذائقۀ هنری شاه گردیده و در شکل گیری آثار هنری مکتب اصفهان نقش داشته است. بدون شک رضا عباسی در مواجهه با شرایط و آثار نو، با الهام و آموزش مقدمات شیوه جدید نقاشی به شاگردان نقشی مهم را در تکامل مکتب اصفهان ایفا نمود.
کاربرد واژگان هنرچوتاشی تبرستان درادبیات عامیانه تبری
مصطفی رستمی،مصطفی میردار رضائی
دکترای پژوهش هنر و استادیارگروه پژوهش هنر دانشگاه مازندران (نویسنده مسوول)
دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
چوتاشی،هنری است که هنرمندان تبرستان بامهارتهای فراوان از چوب درختان بومی اطراف خود وبا ابزارهای دستساخته،محصولات تزئینی وکاربردی زیبایی راخلق میکنند. فرم ونقش های روی ظرف های چوتاشی برگرفته ازذهن خلاق هنرمنداست. آنچه که از این هنر نظرها را به خود جلب میکند، علاوه بر فن بدوی و بدیع ساخت ظرفها، وجود نقش ها،فرم ها و محصولات گوناگون الهام گرفته از نمادهای طبیعت فرهنگ و محیط زندگی مردمان تبرستان است. جایگاه این هنر علاوه بر فرهنگ و زندگی، درادبیات عامیانه تبری نیز قابل جستجو است.
این پژوهش – که به روش توصیفی انجام گردید – میکوشد تا جایگاه مواد، ابزار و نقش ها و محصولات هنر چوتاشی را در ادبیات عامیانه تبری مورد بررسی قرار دهد.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در ادبیات عامیانه تبری چون ضربالمثلها،شعرهاوترانه ها و ... واژگان متن و مواد، ابزار، نقش ها و محصولات هنر چوتاشی بامضمون های عاشقانه و عارفانه و یا بزمی و حماسی بکار رفته و هر یک گویای اهمیت کاربرد محتوای ادبیات عامیانه تبری و تاثیرآن درساخت و پرداخت آثار چوتاشی تبرستان و یا تاثیرجایگاه این هنر در ادبیات عامیانه تبری است و این می تواند بیان کننده ریشه های مستحکم جایگاه هنر چوتاشی درآن سرزمین کهنزاد باشد.
بررسی جامعه شناختی تاثیر ایدئولوژیک منطقه قفقاز بر شکل گیری و افول نهضت جنگل
محمد رضا غلامی، هادی نوری
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
جنبش های اجتماعی در اشکال مختلف آن یکی از اساسی ترین و تاثیر گذارترین موضوعات مطرح در حوزه جامعه شناسی سیاسی محسوب می شوند. در این مقاله به بحث راجع به یکی از پر تفسیر ترین جنبش صد ساله اخیر در ایران معاصر یعنی جنبش جنگل پرداخته می شود. بی گمان نهضت جنگل به عنوان یک جنبش اجتماعی انقلابی از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می آید و به سبب اهمیت فراوانی که در تاریخ ما دارد, آن را مهم ترین جنبش ملی می دانند.با این همه, از جمله مهم ترین, ناشناخته ترین, رویدادهای تاریخی میهن ماست. این جنبش که در تداوم خواستههای جنبش مشروطیت قرار میگیرد (1300-1293 ه. ش) تحت تاثیر عواملی مثل نابرابریها، تضاد منافع، ناکارایی دولت، شرایط بینالمللی (جنگ جهانی اول)، استثمار و ستم طبقاتی شکل میگیرد. در این مقاله بر پایه رویکرد نظری نسل اسملسر به طور خاص به بررسی اثر عوامل ایدئولوژیک در پیدایش نهضت جنگل پرداخته می شود. در واقع جنبش جنگل در یک اوضاع آشفته و نابسامان از نظر داخلی و خارجی، با ارائه ایدئولوژی و مرامنامه و اعلام جمهوری قدم در راه مبارزه با ستم و دفاع از استقلال و آزادی مردم ایران میگذارد. این جنبش بلحاظ ایدئولوژیک متاثر ازچند جریان مذهبی و غیر مذهبی می باشد( آبراهامیان، 1384؛ رواسانی، 1381؛ نعیمی، 1391). این مقاله بطور خاص در بحث از تعامل ایدئولوژیک منطق قفقاز و نهضت جنگل به بررسی ابعاد این تعامل و اثرات آن بر نهضت فوق می پردازد.
تنوعات کارکرد نقوش گیاهی در مینیاتور ارمنی و بررسی شباهت آنها در نگارگری ایرانی
رضا رفیعی راد
دانشگاه گیلان، رشت، ایران
با اختراع خط ارمنی، زبان بصری مینیاتور ارمنی نیز تحولات بزرگی را پشت سر نهاد که در مکاتب واسپوراکان، کیلیکیه، هایک، آنی، کریمه، گلدزور، داتو تجلی یافت. یکی از مشخصه های مهم مینیاتور ارمنی، کاربرد فراوان و متنوع نقوش گیاهی است. آنچه ضرورت دارد این است که مشخص کنیم، نقوش گیاهی، به چند شکل در مینیاتور ارمنی مصور شده و در مقایسه با نگارگری ایرانی چه شباهتهایی را داراست. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، نشان میدهد که نقوش گیاهی به پنج صورت در مینیاتور ارمنی حضور دارند: نقش گیاه برای تصویرسازی عین به عین متن، استفاده از نقش گیاه برای توصیف روایت، فرم خلاصه و هندسی گیاهان برای پر کردن خلاء، گیاه به عنوان نماد و استفاده از صورت زیباشناسانه نقش انتزاعی گیاه. همچنین نشان داد که در چهار شکل از مصورسازی نقوش گیاهی، مشابهت هایی میان مینیاتور ارمنی و ایرانی وجود دارد. اما در شکل سوم، خلاصه سازی هندسی فرم نقوش گیاهی برای دست یابی به ایجاز در مینیاتور ایرانی قابل مشاهده نیست.
تببین مفهوم وطن در بین شاعران برجسته ارمنستان
محمود رنجبر
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان- ایران
شعر ارمنی از آغازین سالهای قرن پنجم میلادی وجود داشته است. این نوع ادبی جزوی از ادبیات مکتوب و غیر مکتوب ارمنستان است که در دو حوزه فرامین دولتی و فرهنگ توده وجود داشته است. فرامین دولتی به زبان کلاسیک گرابار نوشته می شد که امروزه از آن به عنوان زبان باستان ارمنی یاد میشود. آنچه در این آثار نمود داشته است، مفهوم وطن و هویت ارمنی بوده است. این مفهوم در سدههای بعد از حوزه صرف توصیف بیرون آمد و به روایت انقلابی مبدل شد. شاعران و نویسندگانی چون سیامانتو، دانیل واروژان،گریگورزهراب، روبن سواک، ایساهاکیان، واهان تکهیان و گیقام ساریان از جمله کسانی بودند که مفهوم تازهای از وطن در شعر ارمنی را پدید آوردند. روایت این شاعران با طرح آوارگی مردم سرزمینشان همراه است. توصیفهای دقیق و جزئیات آوارگی در شعر این شاعران نشان می دهد که تعدادی از آنان خود جزو کسانی بودند که در آوارگی و غربت همراه مردم بودند و حتی تعدادی از آنان جان خود را در راه حفظ وطن از دست دادند. در پاره ای از این توصیفها نوع ادبی مرثیه نقش بارزی دارد، مانند شعر هوانسیان در چگوری که میگوید:« ای چگوری، مظهر دردهای میهنم، شمارنده دردهای بسیاری / تو آن زخمها را با دریاهای اشک نیز توانی شست» برخی شاعران ارمنی نگرش حماسی به مفهوم وطن دارند، یقیشه چارنتز از جایگاه والای وطن میگوید:« من نسیم دلاویز گل سرخ ها و گلهای آتشین میگونش را دوست میدارم» گروه دیگری از شاعران به جنبههای تاریخی در توصیف وطن اشاره دارند و سروپ لئونیان از این گروه هستند. او زخمهای پدید آمده بر مردم ارمنستان در گذر تاریخ رفتنی میداند:« روزهای سخت و ناگوار، همچون زمستانها میآیند و میروند/ چه جای نومیدی است/ پایان خواهد یافت/ میآیند و میروند». تحلیل و بررسی مفهوم وطن در اشعار شاعران برجسته بر اساس سه رویکرد توصیفی، حماسی و تاریخی هدف این پژوهش است. نتایج تحقیق نشان میدهد. شاعران ارمنی به دلیل حضور در صحنههای مختلف اجتماعی ، جنگها و غربتهای مردم به بیان توصیفات ریزبینانه و دقیق حماسی و تاریخی توجه بیشتری نشان دادهاند. این رویکرد به دلیل روحیه مقاومت و توجه به تاریخ کهن ارمنستان مورد توجه مخاطبان ارمنی و جهان قرار گرفته است.
آوای چگوری صدای دو ملت ایران و ارمنستان در دل تاریخ
محمود رنجبر
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان- ایران
«چگوری» سروده شاعر نام آشنای ارمنی هوانس هوانسیان(1864-1929 م) است. از هوانسیان به عنوان یکی از چهار رکن شاعران برجسته ارمنی نام برده شده است. شعر چگوری که در میان ارمنیان به چنگوری نیز شناخته میشود، روایت گفتگو با نوازندهای دوره گرد است که در نواحی مختلف ارمنستان میگردد تا با آواز خوش خود داستانهای کهن ارمنی را در قالب سرودههای خوش و دلنشین به همراه ساز و آواز در اختیار مردم قرار دهد. در واقع چگوریها همانند گوسانان ایرانی در دوره هخامنشیان نوازندگانی هستند که حامل ادبیات عامیانه مردم به شمار میروند. هوانسیان در گفتگوی با چگوری به هزار توی تاریخ میرود و سکوت را مانع جدی برای حقیقت برمیشمارد.« گفتم ای چگوری چگورت را بردار . ما را از دل خود سخنی بگو» این گفتگو چنان دلنشین و واقعگراست که هر خواننده و شنوندهای را به سوی خود جلب میکند. شاعران مختلفی از ایران با تاثیر پذیری از هوانسیان به همین شیوه، حاملان مردمی فرهنگ را خطاب قرار دادهاند. توصیف دوتار در فرهنگ ترکمن، گفتگو با عاشقلرهای آذری ایران از همین سنخ است. از میان شاعران فارسی زبان و برجسته ایران مهدی اخوان ثالث در مجموعه شعر «از این اوستا» با شعری به نام «آواز چگور» تحت تأثیر «چگور» هوانسیان سروده است: «بس کن خدا را/ بیخودم کردی /من در چگور تو صدای گریه خود را شنیدم باز/ من میشناسم این صدای گریه من بود» هوانسیان و اخوان صدای دو ملت در تاریخ هستند. اخوان در آوای چگوری از زیر و زبر و اوج نغمهای در دل تاریخ سخن میگوید. وی در این گفتگو، حقیقت پنهان نگه داشته شده را میبیند. از همین رو در هوای ناجوانمردانه و سرد زمانهای که هوانسیان نیز در آن زیست داشته است، صدای مرد خستهای میآید که در آخرین رمقهای خود، مردم را به بیداری دعوت میکند.
در این پژوهش به شیوهای توصیفی تحلیلی در نظر است وجوه اشتراک شعر چگوری هوانسیان و انعکاس صدای آن در شعر «آواز چگور» مهدی اخوان ثالث از منظر روایت شناسی بررسی شود. در این بررسی به تأثیر پذیری شاعران کمتر شناخته شده ایرانی از شعر چگوری هوانسیان نیز اشاره خواهیم داشت. هدف این پژوهش نشان دادن وجوه اشتراک در روایتی حماسی، غنایی و نقاط مشترک در آگاهی بخشی از سوی شاعران روشنفکر برجسته دو کشور است.
نقش ارامنه در توسعه صنعت ابریشم گیلان عصر صفوی
نادیا ره
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه گیلان
گیلان، اندکی پیش از قدرتگیری صفویان توسط تجار اروپایی به عنوان یکی از کانونهای عمده تولید ابریشم ایران مورد توجه آنان قرار گرفت. عصر صفوی هم زمان با رشد تجارت دریایی اروپائیان و افزایش تقاضای تجارت ابریشم در بازار جهانی بود. به همین دلیل این کالای استراتژیک مورد توجه حاکمان صفوی قرار گرفت. بهطوریکه شاه عباس پس از به قدرت رسیدن از این فرصت بهرهبردای اقتصادی و سیاسی نموده و از این کالا به عنوان پشتوانه برنامههای خود سود جست. شاه عباس با توجه به تجربه اروپاییان در تجارت ابریشم، از ارمنیان که تجربه ارزشمندی در این زمینه داشته و در این زمان سرزمینشان بخشی از شاهنشاهی صفویان بود،بهره برد. در نتیجه اسکان ارامنه در نواحی شمال ایران در پی اجرای توسعه سیاسی- اقتصادی عصر صفوی انجام پذیرفت. هدف از اسکان ارامنه، علاوه بر به کاری گیری آنان در تجارت ابریشم، استفاده از مهارت آنها در پرورش کرم ابریشم و فراوری آن بود. پژوهش پیش رو در پی این پرسش است که نقش ارامنه در توسعه صنعت ابریشم گیلان عصر صفوی چه بوده است؟ به نظر میرسد حضور ارامنه در جغرافیای ابریشمخیز گیلان سبب افزایش تولید ابریشم و توسعه تجارت ایران با اروپاییان شد. روش بکار رفته در این پژوهش به شیوه مطالعات تاریخی و به شیوه توصیفی- تحلیلی با تکیه بر مطالعات کتابخانهای و اسناد تاریخی صورت میپذیرد.
جشن آبریزان نمودی از فرهنگ مشترک ایران و ارمنستان
سولماز رئوف
دانشجوی دکتری باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
ایرانیان و ارمنیان دارای جشنهای مشترکی هستند که نشان از زمینههای فرهنگی مشابه بین دو قوم کهن است. یکی از این جشنها، جشن آبریزان یا تقدس آب است که در ایران به نام تیرگان و در نزد ارمنیان به وارتاوار یا وارداوار معروف است. در گذشته این مراسم در استانهای مختلف ایران به خصوص گیلان و مازندران برگزار میشد. در گیلان معتقدند در زمانهای پیش از اسلام در منطقه به مدت چند سال باران نباریده بود. در این روز، تمام مردم در مکانی گرد هم آمده و دعا نمودند. همان لحظه باران بارید. بدان سبب، مردم شادی و نشاط کردند، آب بر یکدیگر ریختند و از آن روز این رسم برجاست. این مراسم در گیلان در سیزدهم تیرماه برگزار میشد. ارمنیان این جشن را مربوط به الهه آستقیگ الهه زیبایی، باروری و حاصلخیزی میدانند و برگزاری این جشن در فصل تابستان به منظور طلب باران و برکت از فرشته باران بوده است. در بسیاری از مکانهای زیارتی گیلان و مازندران از جمله بقعهها و سقانفارها نقش این فرشته دیده میشود؛ به صورت موجودي با سرانسان و دستهاي بيشمار که گاه سر اين موجود تخيلي با تاج آراسته شده است تا مفهوم ملك بودن را بهتر القا كند. نقش ملك باران تداعيكننده كهن الگوي تيشتر، خداي باران است که درقالب ستاره شعراي يماني يا كلب اكبرتجسم پيدا ميكند.
در این مقاله ضمن بررسی پیشینه این جشن، زمان برگزاری و چگونگی پاسداشت آن در میان ایرانیان و ارمنیان، موتیفهای مرتبط با جشن آب از جمله ملک باران بر روی معماری و هنر این دو سرزمین بخصوص مکانهای مذهبی موجود در گیلان و مازندران مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. رویکرد نظری این پژوهش، مطالعات تاریخ فرهنگی است و روش تحقیق آن بر مبنای گردآوری اطلاعات به صورت میدانی (مشاهده بقعهها و سقانفارها) و اسنادی (منابع کتابخانهای) است.
قفقاز، روسیه و نمود آن در اشعار شاعران پارسیسرا
فرحناز رئیسی نافچی، محمدابراهیم ایرجپور
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیامنور
همواره در سرتاسر تاریخ، روابط بین کشورهای مختلف برای رفع نیازها و تداوم دولتها برقرار بوده است. منطقۀ قفقاز و آسیای میانه نیز پیشینۀ وابستگی تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی زیادی با ایران داشتهاند. علاوه بر این، این مناطق در همسایگی ایران قرار گرفتهاند که بدون شک این امر، وابستگی و پیوند بین آنها را بیشتر و محکمتر کرده است. همین امر سبب شده است که شاعران و نویسندگان ایرانی نیز در جایجای آثار خود اشاراتی هر چند مختصر به برخی از خصوصیّات و ویژگیهای مردمان این سرزمین یا برخی از خصوصیات بازر آنها داشته باشند که نشان از توجّه به آنان و اهمیّت این کشورها دارد.
در این پژوهش، پس از بررسی پیشینۀ روابط بین ایران و این سرزمینها، نام دو کشور روسیه و قفقاز در دیوان برخی از شاعران فارسی زبان بررسی شده است. این پژوهش نشان میدهد که از قدیمترین ایّام و در دیوان کهنترین شاعران ایرانی مانند دیوان ناصرخسرو و حتّی شاهنامۀ فردوسی از کشور روسیه نام برده شده است و شاعران برای تصویرسازیهای شاعرانۀ خود و یا نشان دادن اوضاع سیاسی و روابط اجتماعی کشور خود با این دو کشور، از نام این دو کشور بهره بردهاند. نکتۀ قابل توجّه، در بررسیهای انجام شده این است که در دوران مشروطه که روابط بین ایران و سایر سرزمینها بیشتر بوده است، کاربرد این دو واژه در شعر شعرای این دوره نیز نمود بیشتری یافته است.
دو شکلی مصادر در زبانهای حاشیة خزر، نشانهای از فروپاشی زبانی
جهاندوست سبزعلیپور
دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
در تعدادی از زبانهای ایرانی، از جمله زبانهای حوزة خزر که جزیی از شاخة شمالغربی هستند، دو علامت مصدری وجود دارد، بدین صورت که یک علامت بسیار پرکاربرد و دیگری بهنسبت کم کاربرد است. با توجه به این که نشانة مصدری یکی از نشانههای بارز برای شناخت گویشهای ایرانی است، در این تحقیق سعی شده است، ویژگی دو مصدری در تعدادی از این زبانهای بررسی شود. زبانهای انتخاب شده برای این پژوهش از زبان تاتی، گونة گیلوانی؛ از زبان تالشی، گونة پرهسری؛ و از زبان گیلکی گونة رشتی انتخاب شدهاست. روش تحقیق اغلب میدانی است، و در مواردی هم از منابع کتابخانهای استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهد، وجود دو یا چند شکلی مصادر، میتواند سرآغازی برای فروپاشی زبانی و تحولات، فرسایش یک زبان باشد.
خرسندی در دیدگاه خاقانی
یحیی ستوده افشرد، اسماعیل عین الله زاده
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دکتری ایرانشناسی
خرسندی یکی از خوی و منش های خاقانی است که نمود آن را می توان در دو بخش زندگی وی دید. سخنور درباری زمانیکه با خوار داشت هم روز گاران خود روبروست یابه جایگاه راستین خود که شایسته شاعر بلند پایه شروان است، نرسیده با بزرگ منشی خود، به قناعت ورزی روی می آورد. در برابر هر کس ونا کس با خرسندی ، بزرگ منشی خود را حفظ می کند. آزرده شروان وقتی پای در ملک آیین درویشی می گذارد و با "توبه نصوح" در جبران روزگاران سپری شده در غفلت است،از دربار پادشهان دوری می گزیند و با درویشان وعارفان هم نشین می شود. با بینشی نشات گرفته از اندیشه زاهدانه، خشنود به داده های خداست و با خرسندی زاهدانه در پی ترک دنیا و رسیدن به پادشاهی معنوی است. سروده ها و نوشته های خاقانی گواه این است که وی براستی به خوی خرسندی آراسته شده است و بازتاب این خوی در آثار وی تنها بیان مفاهیم عرفانی نیست، بلکه بعد از سختی هایی که در راه رسیدن به زندگی آرمانی کشیده، به این خوی پسندیده آراسته شده است.
بررسی علل بهكارگيري ارمنیان در بازرگانی خارجی صفویان و ميزان كاميابي آنها
ابوطالب سلطانیان، سعید سلطانیان
استادیار تاریخ و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی، گرایش تاریخ، دانشگاه گیلان
هرچند پژوهشهايي پيرامون كوچاندن ارمنيان مناطق مختلف قفقاز به داخل ايران- بهويژه به اصفهان- صورت گرفته است، اما علل بهكارگيري آنان در چرخۀ بازرگاني خارجي صفويان و نيز چگونگي كاركرد آنان در اين چرخه چندان مورد بررسي همهجانبه قرار نگرفته است، تا زواياي گوناگون آن روشن گردد.
بنا براين، این پرسشها در اینجا مطرح هستند که چه عواملی سبب شدند که شاهعباس يكم (1038-996) براي گسترش بازرگاني خارجي به ارمنیان روی آورد ؟ ديگر اینکه ارمنیان در زمینۀ تجارت خارجی چه نقشی ایفا کرده اند و میزان کامیابیهاي آنان در اين زمينه به چه میزان بوده است؟ در اين راستا، سعي براين است تا با بهرهگيري از منابع و اسناد معتبر، پاسخ روشنتري به پرسشهايي از اين دست داده شود. چنین بهنظر میرسد که ارمنیان با تجاربی که از پیش اندوخته بودند، نیز با ویژگیهای خاص فردی و زیستی خود توانستند بازرگانی خارجی ایران را در قلمروهای دوردستی گسترش دهند. قلمروهایي كه تا کنون چنانكه بايد شناخته نشده اند. در اين سرزمينها، آنان توانستند با رقیبان و کمپانیهای هند شرقی به رقابتی سخت برخیزند و در نتيجه در عرصههای بازرگاني جهانی بدرخشند.
تعاملات اساطیری و فرهنگی ایران و ارمنستان در عصر کهن
بیتا سودائی
گروه باستانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد ورامین پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران
اسطوره شناسان درباره پدیدار شدن باورهای اساطیری در ذهن انسان های گذشته با توجه به عوامل مادی، طبیعی، معیشتی، اجتماعی و روانی نظریه های گوناگونی را ارائه کرده اند که باعث کثرت نظریات متضاد و گاه مشترک شده است. اساطیر هر ملتی دربرگیرنده ی یک رشته روایات مقدس سنتی است که بنا بر باورهای رایج در جوامع ابتدائی، در آنها اموری حقیقی از آعاز هستی شرح داده می شود. در این گونه اساطیر از یک سو رابطه میان انسان و جهان تفسیر می گردد و از سوی دیگر ساختارهای اجتماعی، شیوه های معیشتی و معیارهای رفتاری و اخلاقی جوامع مورد بررسی قرار می گیرد.بدین ترتیب اساطیر در هر دوره علاوه بر بازتاب ساختار اجتماعی جوامع نشان دهنده ی مناسبات اجتماعی و نظام حاکم بر جامعه نیز است. ارتباط فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و تاریخی بین ایران و ارمنستان از دیرباز باعث پیوندی پایدار در عرصه ی فرهنگ و هنر بین این دومنطقه شده که مورد توجه بسیاری از ایران شناسان قرار گرفته است. ارامنه از جمله اقوام هند و اروپایی به شمار می آیند که وجوه اشتراک بسیاری در اساطیر و باورهای هند و اروپایی دیده می شود که نشان دهنده اشتراکات فرهنگی بین ملت هاست. تصور عمومی بر آن است که ارامنه، از زمان شاه عباس صفوی به ایران وارد شدند و پیشینه ای چهارصد ساله در ایران دارند، اما در این پژوهش به پیشینه جامعه ارامنه ، نخستین مناطق ارمنی نشین و تاتیرات متقابل فرهنگی بین ایران و ارمنستان در عصر کهن پرداخته شده است.
جایگاه مطالعات ایرانشناسی در کشورهای حوزه قفقاز
مریم شاد محمدی، عباس پناهي، فرشته رحمانینژاد
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
عضو هیأت علمی تاریخ پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان
دانشآموخته کارشناسیارشد ایرانشناسی دانشگاه گیلان
قفقاز از دیرباز پیوند های ناگسستنی با سرزمین ایران داشت. دو ناحیه اَران و شروان از همان آغاز جزیی تفکیکناپذیر از ایران به شمار میآمد و پادشاهان ادب دوست این سامان نقش مهمی در تقویت و گسترش شعر و ادب فارسی در این منطقه داشتند. به عبارت دیگر، زبان فارسی، زبان فرهنگی این منطقه محسوب میشد. به تدریج در سایر نواحی قفقاز نظیر آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و داغستان نیز زبان فارسی رونق یافت. امروزه با رشد و گسترش مراکز علمی، در هر یک از این نواحی توجه به زبان فارسی و مطالعات ایرانشناسی از اهمیت اساسی و جایگاه ویژهای برخوردار است. علاوه بر پیوندهای تاریخی، از اواخر سده نوزدهم میلادی بر مبادلات فرهنگی و اقتصادی شمال و شمال غرب ایران با قفقاز افزوده گشت، در نتیجه بخش زیادی از منابع مکتوب و نسخههای خطی در سده نوزدهم و بیستم به کتابخانهها و آرشیوهای قفقاز راه پیدا کرد و همین مسأله یکی از دلایل ایجاد دپارتمانهای ایرانشناسی در این منطقه در دوره شوروی گشت. پس از سقوط کمونیسم، بر پایه تحقیقاتی که در دوره شوروی بر روی ایرانشناسی در جمهوریهای آن صورت گرفته بود، دپارتمانهای متعدد ایرانشناسی با تمرکز بر زبان و ادبیات فارسی،زبان شناسی، تاریخ و مردمشناسی ایران در این مراکز ادامه یافت. با توجه به این مسأله و اهمیت مطالعات ایرانشناسی در قفقاز در پژوهش حاضر انتظار میرود به بررسی جایگاه ایرانشناسی در قفقاز و تحولات انجام گرفته در این زمینه پرداخته شود. به نظر میرسد با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی قفقاز در ایران، زبان فارسی و مطالعات ایرانشناسی از اهمیت و جایگاه اساسی در پژوهشهای علمی قفقاز برخوردار باشد.
توسعه تجارت خارجی ایران و ارمنستان
سید شمس شفیعی
دکتری تخصصی اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه
یکی از روش های توسعه روابط تجاری کشورها شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی – تجاری کشورها جهت تبیین الگوی بهینه تجارت و رساندن حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن می باشد.جهت شناسایی ظرفیت های تجاری دو کشور و الزامات همکاری اقتصادی آنها ،بررسی ژئوپلتیک و ژئواکونومیکی کشورها ضروری به نظر می آید. در مقاله حاضر پس از بررسی موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیکی کشور ارمنستان و تاثیر پذیری روابط تجاری کشورها از آن ، فرصت ها و موانع تجاری بین دو کشور بررسی گردید و سپس عوامل اقتصادی موثر بر روابط دوجانبه شناسایی شد و مشخص گردید که تولید ناخالص کشورها ، رشد نرخ ارز ، هزینه های تحقیق و توسعه تاثیر مثبت بر روابط کشورها دارد در حالیکه رشد جمعیت ، فاصله جغرافیایی و شاخص لیندر رابطه معکوس با حجم مبادلات تجاری دارد.ضمن اینکه پتانسیل تجاری دو کشور در طی سالهای مورد مطالعه روند صعودی داشته و از سال 2006 از ظرفیت های بالقوه استفاده نشده است.
بررسی پیوندهای ادبی ایران و گرجستان و تاثیر آثار ادبی ایران بر ادبیات گرجی
کوهیار شمسائی سالکده، زینب فخاری کیسمی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشگاه فرهنگیان گیلان
کارشناس ارشد مدیریت دولتی، هلال احمر استان گیلان
با مطالعه در تاریخ ٠٠٠٣ ساله به وضوح می توان دریافت که از میان شهرهای قفقاز، گرجستان کنونی عضوی شاخص و برجسته از ایران زمین بوده است که به لحاظ ادبی وابستگی های بسیاری بین این دو کشور به چشم می خورد. در حقیقت این دو، اعضای یک پیکره می باشند که فقط با مرزهای جغرافیای از هم جدا شده اند.
ناگفته نماند که این روابط محدود به قرون گذشته نبوده و گرجی ها در ایران به عنوان یکی از اقوام خوشنام و با سابقه ای در خشان در تاریخ ایران زمین به شمار می روند. با مطالعه در مجموعه مقالات مختلف مانند آنچه که در سمینار ایران و گرجستان در سال ١٣٧٦ اراﺋه شده و توسط وزارت امور خارجه ایران به چاپ رسیده است به راحتی می توان فهمید که این دو کشور چه بسیار مشترکات ادبی دارند. این تحقیق بر گرفته از زحمات محققانی است که در کتابها، سمینارها و مقالات ارزشمند خود در سالهای گذشته اراﺋه نمودند.
در نظر است در این مقاله پیشینه ادبیات فارسی، آثار نظم و نثر فارسی و اینکه در چه زمانی از تاریخ فارسی به زبان گرجی وارد شده است و چه تاثیراتی بر روابط این دو کشور داشته است را بررسی نماییم. به گفته پروفسور گیورگی ساناکیدزه رییس انستیتو شرق شناسی دادشگاه دولتی ایلیا گرجستان، مطالعات خاور میانه محور اصلی فعالیت های این انستیتو است و مطالعات ایران شناسی در بین محققین انستیتو شرق شناسی گرجستان همواره از جایگاه برجسته ای برخوردار است. به همین دلیل هدف این مقاله بررسی سیر ترجمۀ آثار فارسی به زبان گرجی بوده و پس از معرفی برخی از مهمترین ترجمه ها، تاثیر آنها را در ادبیات گرجی مطالعه می نماید.
ساختمان اسم، ضمیر و قید در گویش کرمانجی خلخال
زهتاب صحبت زاده، سید سعید احدزاده
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
کردها قومی ایرانی هستند که در استانهای ایلام، آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه، همدان، خراسان شمالی،خراسان رضوی، گیلان، مازندران، قم، قزوین، کرمان، فارس واستان اردبیل زندگی میکنند. روستاهایی در شهرستان خلخال واقع در استان اردبیل به زبان کرمانجی تکلم میکنند. این روستاهااز شمال به جنوب عبارتند از: میل آغاردان،بلوکانلو، مصطفی لو، پیرانلو، اوجغاز، مورستان، کلستان علیا، حاجی آباد، کلستان سفلی، لنبر، خداقلی قشلاق، نواشنق، آقبلاغکرد، غفور آباد، کلار، چلنبر،داودخانی. لذا آنچه در این تحقیق به آن پرداخته میشود زبان کردی خلخال به گویش روستای لنبر است. از ویژگی های گویش کرمانجی لنبر می توان به موارد ذیل اشاره کرد: مانند زبان فارسی جنسیت در واژه ها وجود ندارد وبرای زمان های مضارع وماضی دو نوع ضمیر فاعلی کاملا" متفاوت بکار میرود در حالی که در فارسی فقط یک نوع ضمیر فاعلی وجود دارد. در کرمانجی لنبرزمان های مجهول با ترکیبات صرفی فعل “آمدن” درست می شود وقید مکان بعد از فعل می آید. همچنین در این گویش اسم صرف می شود. این نوشتار که به بررسی گویش کرمانجی لنبر اختصاص دارد. با استفاده از جملات، ترکیب ها و واژه ها آنها را در دستگاه زبانی تجزیه وتحلیل کرده وساخت وقواعد فعلی آن به شکلی مدون از نظر آوایی و ساخت واژی به رشته تحریر در می آید. براساس این تحقیق نتیجه گرفته می شود؛ از آنجا ئیکه این منطقه در مجاورت شهر خلخال واقع است زبان ترکی بر گویش این منطقه تأثیر گذاشته و تا حدی آن را با گویش ترکی آمیخته است. افعال ساده روز به روز به فراموشی سپرده می شوند و همچنان که در جدول فعل های ساده ملاحظه می گردد بسیاری از افعال پیشوندی، بدون شک ساده ندارند و به جای آنها افعال مرکب به سرعت در حال افزایشند.
مخاطب شناسی اشعار شاعرارمنی تبار ایرانی «کارو در دریان»
علی صفایی
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان- ایران
«کارو در دریان» شاعر ارمنی تباری است که در سال 1304 در همدان به دنیا آمد و در سال 1386 در کالیفرنیا از دنیا رفت. او از نسل اولین شاعران پیرو سبک نیمایی بود که در میان طبقه خاصی از مردم، همیشه خوانندگان و طرفدارانی داشت و چندین نسل با شعر او که سبک و زبانی خاص داشت، عمری را گذراندند. شاید بتوان شعر او را به خاطر توفندگی و شعار زدگی و عاطفی بودن حلقه اتصالی با شعر در دورهای از زندگی جوانان ایران دانست که به مثابه پلی آنها را وارد دنیای شعر میکرد و خیلی زود از آن مرحله عبور میداد و وارد مرحلهای بالاتر میکرد. شاعرانی نظیر فریدون مشیری و مریم حیدرزاده و ... نیز در ادبیات فارسی نظیر چنین نقشی را ایفا کردند. او از چهارده سالگی شعرسرایی به زبان ارمنی را شروع کرد اما خیلی زود به سرودن و نوشتن اشعارش به زبان فارسی پرداخت. اشعار کارو به خاطر زبان تند و تیز و بیان برخی مفاهیم غیر متعارف بعضاً مورد انتقاد و طرد قرار گرفت. همچون هوشنگ ایرانیکه نامش با شعر جیغ بنفش گره خورد و زوایای گوناگونی اشعارش مورد بررسی دقیق قرار نگرفت. کارو در اشعارش اغلب ناهنجاریهای جامعه انسانی را مورد انتقاد قرار میدهد. ظلم، فقر، نادانی،خرافات، دوری انسان معاصر از عواطف و ارزشهای اخلاقی، ثروت اندوزی و غفلت زدگی از عمده مضامین و موضوعات مورد توجه او هستند. او همچنین عشق لطیف و پاک را میستاید و در ترویج آن می کوشد.
قصد نگارنده آن است که با عنایت به وضعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی زندگی این شاعر و نیز مضامین موجود در اشعارش به مخاطبشناسی اشعار وی بپردازد.
بررسی جایگاه گوسان ها در گسترش فرهنگ و ادبیات در ایران و قفقاز
علی صفایی
عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان- ایران
گوسانها شاعران و خوانندگان دوره گردی بودند که از دوران پیش از هخامنشیان در ایران بزرگ از منطقهای به منطقهای دیگر میرفتند و به عنوان حافظه جمعی یک ملت فرهنگ و تاریخ و حماسههای شفاهی را در مناطق گوناگون ایران منتشر میساختند. از قدیمیترین منابع و متونی که از گوسانها سخنی به میان آورده، کتاب ویس و رامین است.
گوسانها که در مجامع درباری و نیز مجامع عمومی مردم حضور مییافتند، چه در شادی و چه در سوگواریها فیالبداهه اشعاری را میسرودند و بعضاً با موسیقی میخواندند، نظیر آنچه کولیها و عاشیقلرها اجرا میکنند. به عبارت دیگر گوسانها سفیران فرهنگ شفاهی ایران زمین بودند که همچون رشته تسبیحی ترانهها، آیینها و باورها و حماسههای مشترک را به هم پیوند میدادند و به خاطر اجرای همراه با موسیقی اشعار از سوی مردم مورد استقبال قرار میگرفتند.
مری بویس اعتقاد دارد که این گوسانها که همزمان شاعری و خوانندگی و نوازندگی هم میکردند در دورهای از تاریخ ایران در منطقه قفقاز از جمله ارمنستان و گرجستان فالیت گستردهای دارند.
قصد نگارنده در این مقاله بررسی ماهیت آثار گوسان و گستره جغرافیایی فالیت آنان در دوران باستان است.
نظریهی بهینگی به عنوان الگوی زبانی و نقش آن در احیای گویش های بومی و محلی ایران و قفقاز
ابراهیم صفری،روشنک گلدوست
دانشگاه فرهنگیان گیلان،دکتری زبانشناسی
دبیرآموزش و پرورش، دکتری زبانشناسی
هر مکتب زبان شناسی با ظهورش سعی دارد با مطالعه ی الگوهای زبانی به دنبال تعمیم های زبانی باشد بنابراین هر مکتب جدیدی به محض بوجود آمدن و پا گرفتنش، تعمیم های زبانی با ماهیتی متفاوت بوجود می آورند.
نظریه بهینگی از دل زبان شناسی جدید دستور زایشی جوانه زده است که در سال 1993 از سوی پرینس و اسمولنسکی مطرح شد و در همه ی حوزه های زبان رویکردی محدودیت مبنا می باشد چون اختلافاتی که در بین زبان ها دیده شده ریشه در وجود اختلاف در رتبه بندی محدودیت ها دارد اما بیشترین تأثیرش بر واج شناسی می گذارد.
این نظریه از یک سو همانند صورت گرایان ادعای مطالعه و کشف جهانی های زبانی را برای توصیف استعدادهای زبانی انسان دارد و از سوی دیگر به تبعیت از نقش گرایان برای رسیدن به این هدف از شیوه ی به کارگیری الگوهای زبانی در سطح کنش گویش وران زبان ها بهره می جوید. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد و هدف این پژوهش معرفی و کاربرد نظریه بهینگی به عنوان یکی از شعبات مطرح و تأثیرگذار در زبان شناسی جدید جهت وحدت در تنوع گویش های در معرض خطر منطقه با تحلیل فرایندهای واجی، به تبیین محدودیت های حاکم بر این گویش ها پرداخته و به استخراج انواع فرایندهای واجی موجود در این گویش ها با توصیف و معرفی آن ها به بررسی اشتراکات و بهره برداری پرداخته و از دستاوردهای به دست آمده در ماندگاری و احیای آن ها کمک بگیرد.
تحلیل اسطورهشناختی ریشههای مشترک انگارههای ترکیبی انسان ـ جانور
در هنر نیمه نخست هزاره اول پ.م فلات ایران و اورارتو
صدرالدین طاهری
رئیس دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان
هنر، اندیشه و فرهنگ دو سرزمین همسایه فلات ایران و قفقاز را رشتههایی ناگسستنی، از دوره پیش از تاریخ تا امروز بههم پیوند دادهاند. یکی از راههای رصد این ارتباطات دو سویه بررسی اسطورههای دو ملت و بازتاب آنها بر روی دستساختهها و آثار هنری است.
فرهنگهای باستانی با رمزگذاری اندیشههایشان در قالب نمادهای کلامی یا شمایلی آنها را ماندگار نمودهاند. هستی در قلمرو زبان، اسطوره، دین و هنر بهیاری نمادهایی که انسان برساخته شکل میگیرد. جوامع انسانی با گرایشی که به نمادآفرینی دارند ناخودآگاه شکلها را تغییر میدهند تا رنگی دینی یا هنری یابند. این نمادها در ارتباط میان فرهنگها دست به دست میشوند؛ اما نباید بر این پندار باشیم که در فرآیند مهاجرت هر نماد تمام مفاهیم اسطورهای آن نیز منتقل و پذیرفته خواهد شد، بلکه نشانهها در سرزمین و فرهنگ تازه ممکن است بارور مفاهیمی متفاوت گردند.
موجودات ترکیبی از بنمایههای محوری و پرتکرار در اندیشه و هنر خاور باستان بهشمار میآیند. هنگامی که انسان با جانورانی همچون عقاب، شیر یا گاو درهم میآمیزد برای کاخها یا نیایشگاهها به نگاهبانی شکستناپذیر بدل میشود و میتواند بهمثابه دورکننده نیروهای شر یاریگر انسان باشد. در هریک از فرهنگهای کهن خاور باستان این موجودات برساخته نام و ویژگیهای خاص خود را دارند. این انگارهها چه در هنر نیمه نخست هزاره اول پ.م فلات ایران (بهویژه شمال باختری ایران) و چه در هنر اورارتویی بارها با شیوهای رازآمیز نقش گردیدهاند و جایگاهی انکارناپذیر در باور مردمان این دو تمدن دارند.
این پژوهش یک موردکاوی تاریخی، تحلیلی ـ تطبیقی و توسعهای است که دادههای کیفی آن بهشیوه اسنادی و میدانی (موزهای) گردآوری شدهاند. چارچوب نظری این پژوهش اسطورهشناسی تطبیقی است؛دانشی که اساطیر ملتهای گوناگون را برای دستیابی به الگوهای مشترک و قوانین همسان و نیز پیجویی چگونگی و چرایی برآمدن فرهنگها و ادیان جهان واکاوی میکند.
بازخوانی معنای کهنالگویی این نشانهها در گرو شناخت گفتمانها و بافتهای فرهنگی در درون جامعه ساکن در فلات ایران و اورارتو، پیجویی شیوه ارتباط آنها با جهان پیرامونشان و بررسی پیوندها و گسستهایی است که میان آنها با فرهنگهای پرمایه و نیرومند همسایه در نیمه نخست هزاره اول پ.م رخ داده است. یاریگر نویسنده در این راه، ترجمهای بینانشانهای است برای برقراری پیوند میان نوشتارهای کهن مردمان این سامان از یکسو و نشانههای نقششده بر دستساختههای هنریشان از سوی دیگر. دادههای اطلاعاتی لازم برای پیریزی معنای نشانهشناختی این نمادها به دو شیوه گردآوری شده است: نخست با متنخوانی و مراجعه به نوشتارهای مذهبی و اساطیری این دو تمدن؛ و دوم با گردآوری و بررسی بنمایههای نقششده بر آثار هنری بازمانده از این فرهنگها در موزههای جهان.
تحلیلی بر نقش و جایگاه ارمنستان در روابط ایران و روم در قرن سوم میلادی
پرویز حسین طلائی
استادیار تاریخ ایران باستان،گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر کرمان
ساسانیان پس از روی کار آمدن در قرن سوم میلادی مدعیسرزمینهای پیشینتحت سلطه شاهنشاهی هخامنشیان که در این زمان در قلمرو رومیان قرار داشت، شدند؛ بنابراین طبق این استراتژی « احیای مرزهای پیشین »، سرزمین ارمنستان یکی از نقاطی بودکه پادشاهان ساسانی در قرن سوم میلادی از همان ابتدا درصدد تصرف آن برآمدند؛ چنان که به کانون اصلی جنگهای ایران و روم در این عصر تبدیل شد. در این رابطه باید گفت که ارمنستان ازجمله سرزمینهای پوشالی وحائل میان شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم بود که نقش مهمی را در مناسبات نظامی، سیاسی، اقتصادی، تجاری و مذهبی آنها داشته است. تا جایی که میتوان گفت بررسی روابط دو قدرت بزرگ باستانی بدون توجه به ارمنستان غیرممکن مینماید. امپراتوری روم نیز نمی خواست از نفوذ واقعی اش در ارمنستان دست بکشد. این کشور نه تنها از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی داشت، بلکه از آن مهم تر، به عنوان یک پایگاه نظامی ایده آل برای عملیات های احتمالی آینده به قلب سرزمین ایران، می توانست نقشی کلیدی داشته باشد. علاوه بر این، ارمنستان یک مانع طبیعی برای دفع حملات اقوام بیابانگرد از شمال به شمار می رفت. در این راستا هر دو قدرت برای به دست آوردن کنترل بر قفقاز به ویژه ارمنستان با استفاده از راهکار های مختلف (جنگ، معاهده و غیره) تلاش می کردند. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که هر چند پادشاهان نخست ساسانی توانستند این سرزمین را در قرن سوم میلادی به تصرف خود درآورده و حتی به صورت ولیعهد نشین نیز انتخاب گردید، ولی در اواخر این قرن رومی ها با استفاده از ضعف شاهان ایران توانستند، ابتدا بر بخش هایی از این سرزمین و سپس کل این سرزمین را به کشور خود ضمیمیه کردند.
علل تداوم اندرزنامه نویسی در عصر سلجوقی با تکیه بر کتابهای سیاست نامه و نصیحه الملوک
قربانعلی کناررودی
عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
اندرزنامه نویسی سیاسی به عنوان یک جریان فکری به منظور تاثیر گذاری بر رفتار سیاسی جامعه از قدیمی ترین و مهم ترین جریاناتی بود که در تاریخ اندیشه سیاسی ایران بوجود آمد و به تدریج جایگاه ویژه ای در بین دیگر جریانات سیاسی پیدا کرد.در دوره اسلامی ایران و به دنبال آن ورود ترکان این ضرورت در بین اندرزنامه نویسان ایجاب کرد تا در ادامه سنت اندرزنامه نویسی ایران باستان ، مقدمات آشنا سازی آنان را به شیوه ها و نکات کشورداری همراه با آداب رفتاری و راههای درست مدیریت سیاسی و اجتماعی فراهم نمایند. نوشتن کتابهای سیرالملوک یا سیاست نامه، رایج ترین شیوه پرداختن به این اندیشه بود و نویسندگانی از بین شهریاران و وزیران ، دبیران، ادیبان، و علما به تدوین این نوع از رسالات و کتابهای سیاسی پرداختند. بر همین اساس سیاستمداری چون خواجه نظام الملک در سیاست نامه و دانشمندی چون امام محمد غزالی در نصیحه الملوک تلاش کردند تا بر اساس اصول سیاسی و اخلاق اسلامی و در قالب اندرزنامه نویسی سیاسی اندیشه های خود را بیان کنند. در عصر سلجوقی ادبیات اندرزنامه نویسی بیش از هر زمانی توسعه و تداوم یافت. شاید جابجایی سریع قدرت و حکومت و نیاز به انتقال تجربه و دانش سیاسی به افراد و حکومتها موجب این امر شد. بار آموزشی آن با سیاست واقع گرایانه ی اسلامی – ایرانی و آسیب شناسی زمانه آغاز و با اصول اخلاقی و عملگرا همراه بود.این آثار در تحول و تداوم اندیشه سیاسی در ایران اسلامی چنان تاثیری گذاشت که می توان گفت هیچ اندرزنامه سیاسی را نمی توان پیدا کرد که بخشهایی از سیاست نامه و یا نصیحه الملوک را در خود نیاورده باشد.
این مقاله بر آن است تا علل و چگونگی تداوم این جریان فکری را در عصر سلجوقی مورد مطالعه قرار دهد .بر مبنای مطالعات انجام شده و بررسی تطبیقی اندیشه ها و آراء اندرزنامه نویسانی چون خواجه نظام الملک و امام غزالی ، تقویت نظریه حکومت متمرکز سیاسی و اندیشه ایرانشهری در کنار احیا و اجرای اصول اخلاقی اسلامی به منظور بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی لازم و ضروری بوده است.
تنوعات کارکرد نقوش گیاهی در مینیاتور ارمنی و بررسی شباهت آنها در نگارگری ایرانی
رضا رفیعی راد
دانشگاه گیلان، رشت، ایران
با اختراع خط ارمنی، زبان بصری مینیاتور ارمنی نیز تحولات بزرگی را پشت سر نهاد که در مکاتب واسپوراکان، کیلیکیه، هایک، آنی، کریمه، گلدزور، داتو تجلی یافت. یکی از مشخصه های مهم مینیاتور ارمنی، کاربرد فراوان و متنوع نقوش گیاهی است. آنچه ضرورت دارد این است که مشخص کنیم، نقوش گیاهی، به چند شکل در مینیاتور ارمنی مصور شده و در مقایسه با نگارگری ایرانی چه شباهتهایی را داراست. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، نشان میدهد که نقوش گیاهی به پنج صورت در مینیاتور ارمنی حضور دارند: نقش گیاه برای تصویرسازی عین به عین متن، استفاده از نقش گیاه برای توصیف روایت، فرم خلاصه و هندسی گیاهان برای پر کردن خلاء، گیاه به عنوان نماد و استفاده از صورت زیباشناسانه نقش انتزاعی گیاه. همچنین نشان داد که در چهار شکل از مصورسازی نقوش گیاهی، مشابهت هایی میان مینیاتور ارمنی و ایرانی وجود دارد. اما در شکل سوم، خلاصه سازی هندسی فرم نقوش گیاهی برای دست یابی به ایجاز در مینیاتور ایرانی قابل مشاهده نیست.
اصطلاحات خانوادگی در گویش رویینی
عباسعلی مدیح، دکتر محمد حسن حاتمی
دکترای قوم شناسی تاریخی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
دکترای زبانشناسی(زبانشناسی خراسان بزرگ)
گویش شناسی و لهجه شناسی یکی از موضوع های مهم زبان شناسی است که برای مطالعه تاریخ سیر تکامل زبان، بویژه زبان فارسی معیار و بطور کلی زبان های ایرانی دارای اهمیت شایانی می باشد .ازآنجاییکه گویش محلی و جغرافیایی دریچه ای به سوی زبان فارسی معیار و بطور کلی دیگر زبان های ایرانی باز می کند ما در این پژوهش گویش رویینی را که برگرفته از دهستان رویین شهرستان اسفراین در منطقه خراسان شمالی می باشد را مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم .
این پژوهش توسط پژوهشگران بصورت میدانی در روستای رویین بین سال های 2008 تا 2016 و همچنین برای تکمیل و همه جانبه بودن پژوهش از روش های " مشاهده ای" و آماری استفاده شده و در مورد دریافت داده های علمی از یاری "شیوه تاریخی" بهره گرفته است .
نوآوری علمی کار، این است که برای نخستین بار این گویش مورد پژوهش منظم و منطقی علمی قرار گرفته که در خراسان بزرگ گویشی با این تعداد گویشور (تعداد کم) گویشی نادر است که از لحاظ آوا شناسی و دستوری و مفهوم واژگان، پژوهشی همه جانبه صورت گرفته است.
با بررسی های انجام شده می توان گفت که گویش در ابتدا زبانی خاص بوده که از تأثیرات زبان های دیگر با توجه به قانون انرژی در زبان به سمت آسان تلفظ شدن رفته است. گویش فعلی حاصل برخورد چندین زبان ایرانی با زبان های ترک – التانیک است لذا آواهایشان و لغاتشان دارای یک برجستگی و ویژگی خاص بوده که هنوز توسط آواهای گویش و لغات فارسی معیار خوب هضم نشده اند. اما در طول زمان این اتفاق خواهد افتاد و مانند سایر اقوام که در طول تاریخ وارد اقیانوس بی کران ایران و فرهنگ ایرانی شده که به مرور در فرهنگ غنی ایران هضم شده و هیچگونه نشانی از آنان باقی نمانده است.
نقش فرهنگی ارمنیان در رشت
هوشنگ عباسی
مدیر و سردبیر ماهنامهی پژوهشی رهآوردگیل،گیلانشناس،پژوهشگر
رشت شهر بارانهای نقرهای، میعادگاه اقوامیست که سالیان متمادی در کنار هم زندگی مسالمتآمیز و آرامی دارند. یکی از باشندگانی که قرنها در شهر رشت ساکن هستند و مصدر امور فرهنگی ارزشمندی شدند، ارامنه هستند.
ارمنیان از قرن پانزدهم میلادی به صورت گروههای کوچک در گیلان مستقر شدند و پس از اینکه رشت در سال 1000 ﻫ.ق به عنوان مرکز گیلان انتخاب گردید، شاه عباس صفوی برای رونق اقتصادی، گروههایی از ارمنیان و گرجیان را، در مناطق شمالی ایران و اصفهان کوچ داد. مهاجران ارمنی در رونق تولید و تجارت ابریشم ایران سهم عمدهای داشتند و باعث افزایش تولید و رونق بازار ابریشم در گیلان بودند.
ارمنیان پس از سکونت در گیلان، نه تنها در تجارت و رونق اقتصادی نقش تأثیرگذار داشتند، بلکه در توسعهی فرهنگی و هنری نیز نقش پر اهمیتی ایفاء نمودند.
عناصر مشترک تاریخ و فرهنگ ایران و ارمنیان سبب گردید، آنان با تاریخ و فرهنگ غنی در توسعه و اعتلای فرهنگی گیلان، بهویژه در عرصههای موسیقی، تئاتر و نمایش، سینما، روزنامهنگاری، چاپ و... تأثیرگذار باشند.
ارامنهی گیلان افزون بر کارهای بازرگانی در رشتههای پزشکی، فنی و هنری، عکاسی و آموزش از نوآوران و پیشگامان دگرگونی اجتماعی و تحوّلات هنری در گیلان بودند.
تلاشهای صادقانهی آنان در عرصهی فرهنگ و آموزش سرانجام مثمر به ثمر شد و به عنوان شهروندان صاحب اندیشه و مؤثر، زندگی مسالمتآمیزی با شهروندان بومی ایجاد کردند و به عنوان جزیی از مردم گیلان محسوب شدند، و در کنار دیگر مردم به کسب و کار پرداختند. تأثیرگذاری فرهنگی ارمنیان باعث شد، گیلانیان به فرهنگ ارامنه علاقمند شوند، تأثیرگذار باشند و تأثیرپذیر شوند.
آنان زبان گیلکی را یاد گرفتند و به زبان شیرین گیلکی با لهجهی ارمنی صحبت کردند و گیلکان نیز واژگانی از زبان ارمنی را فرا گرفتند و برخی از واژگان ارمنی وارد زبان گیلکی شد. به گواهی پژوهندگان گیلانی، محبوبیت آنان به حدی رسید، وقتی برای خرید و فروش به روستاها میرفتند، به آنان ارمنی برار armani bərar (برادر ارمنی) و ارمنی دایی armani daey (دایی ارمنی) یعنی خصوصیترین واژهی خانوادگی میگفتند.
این مقاله بر آن است، تا وجوه مشترک و تأثیر فرهنگی ارامنه در گیلان را، در کنار زندگی مسالمتآمیز مورد توجه قرار دهد.
بررسی انجمن ایزدان ایرانی و قفقازی در دورۀ باستان
علی علی بابایی درمنی
هیأت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی
پیوندهای عمیق فرهنگی میان مردمان قفقاز و ایران در دورۀ باستان به همانندی آیین های آنها پیش از گرویدن بخشی از مردم قفقاز به مسیحیت، انجامید. در این مقاله با بهره گیری از منابع باستانی قفقازی، اعم از ارمنی و گرجی در کنار منابع یونانی و رومی، و همچنین پژوهش های نوین می کوشیم تا این آیین های مشترک بررسی شود. یکی از نمادهای این اشتراک دینی میان ایرانیان و مردمان قفقاز «انجمن ایزدان» است، که از طریق ایران در ارمنستان و گرجستان رواج یافت، با اینحال نباید احترام به این ایزدان را گواهی بر یکتاپرست نبودن ایرانیان باستان دانست زیرا که آنها ایزدان دیگر را دستیاران اهورامزدا می دانستند. انجمن ایزدان در ارمنستان تحت تاثیر ایران به تدریج از دورۀ حکومت محلی اُرُنتیها تا فرمانروایی اشکانیان، به صورت پرستش ایزدانی چون ایزدانی چون آرامازد (اهورامزدا) و آناهیتا و مهر و واهاگن (بهرام) رواج یافت و انجمن سهگانۀ ایزدان ایرانیِ اهورامزدا، مهر و آناهیتا به انجمن چهارگانۀ این ایزدان، با محوریت اهورامزدا، بدل گشت. انجمن ایزدان ایرانی در گرجستان نیز با نامهای دیگری چون آرمازی، آینانا و زادن مورد احترام بودند، که معادل اهورامزدا، آناهیتا ومهر بودند. همچنین تکرار نام واختانگ (بهرام) در میان شاهان گرجستان نشان از اهمیت ایزد بهرام ایرانی در گرجستان دارد.
بررسی روابط وعلایق تاریخی ایران و قفقاز
هادی علیپور
دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
فقاز به لحاظ تاریخی، فرهنگی و طبیعی در گذشته تحت نفوذ تمدن ایرانی بوده و به واسطه تسلط حاکمیت کمونیسم بر این منطقه، تحمیل قراردادهای مرزی و گسترش سیاستهای خاص به دنبال ایجاد شکاف و فاصله بین ایران و اقوام ساکن در منطقه قفقاز همواره در صدد جلوگیری از گسترش نفوذ ژئوپلیتیک ایران بوده است. اما، بر اساس قواعد ژئوپلیتیکی، این ارتباط و وابستگی متقابل میان ایران و منطقه قفقاز در باطن هرگز گسسته نشد. با فروپاشی حاکمیت کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی(سابق)، علایق ژئوپلیتیکی متقابل میان ایران و منطقه قفقاز احیا شد و اکنون، به نظر میرسد به رغم فشارهای قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در ایجاد شکاف میان ایران و قفقاز روابط ایران با کشورها و ملتهای این منطقه در حال تحکیم و تقویت است و با ظهور رویکردهای جدید ژئوپلیتیکی در جهان، بهخصوص ژئواکونومی و ژئوکالچر اهمیت این رابطه بیش از پیش مهمتر جلوه میکند. در این رابطه، ایران میتواند به واسطه قفقاز، ژئوپلیتیک خود را به شمال غربی گسترش دهد و بر اساس منافع ملی خود، بهرهبرداریهای اقتصادی و فرهنگی داشته باشد. چراکه، منطقه قفقاز از لحاظ ویژگیهای ساختار قومی- نژادی و مذهبی اشتراکات متعددی با ایران دارد و شرایط و موقعیت طبیعی منطقه قفقاز نیز برقراری این ارتباط تنگاتنگ را ضروری و لازم مینماید. با توجه به مطالب فوق، این سئوال مطرح است که علایق تاریخی ایران در منطقه قفقاز کداماند و چشمانداز آن را چگونه میتوان ترسیم کرد؟ بر این اساس، فرض بر این است که با برجستهشدن هویتها و پیامدهای آن در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی علایق ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز رو به تقویت خواهد بود و در این رابطه با موانع منطقهای و فرامنطقهای مواجه خواهد شد.
هدف از ارایه مقاله حاضر، بررسی روابط و علایق تاریخی ایران و قفقاز میباشد.
بررسی خردهفرهنگها وگویشهای بومی ایران و منطقه
هادی علیپور
دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
هویت یا آگاهی ملی ایران هر چند مانند هر کشور دیگری در دوران جدید مبنای امر سیاسی قرار می گیرد، اما پیگیری رگه هایی از آن در طول تاریخ ممکن و میسر است. ایران با ساختار شبه امپراتوری خود مامن زبان های و گویش های متعددی است. در این جغرافیای ۱٫۶۴۸٫۱۹۵کیلومتر مربعی، تنوع فرهنگی قابل توجهی حاکم است. اما شگفت آن که این تنوع فرهنگی در طول سده ها خودمدیر بوده است. یعنی گاهی حتی بدون دولت و حکومت نیز توانسته است مولفه های مهم خود را حفظ نماید و حتی آن را صادر کند. زیست انسان ایرانی در این جغرافیا مشابه زیست انسان سایر جوامع نیست. به این دلیل است که اصطلاح بومی شده "اقوام ایرانی" به معنی گروه خویشاندی که در طول تاریخ در کنار هم زیسته اند، می تواند انطباق بیشتری با متقضیات و مختصات آن داشته باشد نه اصطلاحات دیگری چون قومیت و اقلیت که با شرایط بومی سازگار نیستند.
از سوی دیگر نگاه های تقلیل گرا و تعمیم گرا که از آسیب های جدی روش شناشی در حوزه هویت پژوهی اند حاضر یا قادر به پذیرش این حقیقت نیستند . راز این زندگی مشترک حتی در دوران «بی دولتی» در روح ایرانی نهفته است، ورنه فرصت های زیادی برای فراق و جداسری در طول تاریخ ایران برای همه وجود داشت. اقوام ایرانی در طول تاریخ ،بدون ذره ای اجبار و اکراه این روح ملی را نگه داشته اند تا جایی که حتی تواریخ محلی در ایران به زبان فارسی نگاشته شده است. از همین روست که قانون اساسی مشروطه نیازی به شناسایی زبان رسمی ندید و تا زمان سیاسی شدن مباحث زبانی و هویتی اثری از این تردید و شک در این موضوع مشاهده نشد. با توجه به آنچه که گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی خرده فرهنگها و گویش های بومی ایران و منطقه می باشد.
تحلیلی بر تأثیرگذاری مجلات ملانصرالدین و اختر بر انقلاب مشروطه ایران
رضا علیزاده
دکتری جامعهشناسی سیاسی و عضو هيأت علمي پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان
انقلاب مشروطه در ایران در سال 1906 مواجهه اندیشههای نو و جدید با قدرت فزاینده نظام استبدادی بود. ایرانیان در این سال با استفاده از ظرفیتهای داخلی و خارجی توانستند ضمن محدود کردن قدرت پادشاه صاحب مجلس شورای ملی گردند که در آن قوانین مختلف توسط نمایندگان تدوین گردد. این دستاورد بزرگ محصول
تلاشهای فراوان اهالی اندیشه و تفکر ایرانیان بود، در این بین یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار نشریات و مجلاتی بودند که در خارج از کشور منتشر میشدند، که در آن ضمن نقد جامعهی ایران مردم را با افکار نو آشنا میساختند. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر اثرگذاری دو مجله معروف که در تفلیس و استانبول منتشر میشد پرداخته است. مجله ملانصرالدین که در تفلیس به حمایت از مشروطه ایران منتشر شد، به دنبال حمایت از جنبشهای سیاسی سرزمینهای اسلامی بود، این هفتهنامه طنز و مصور که در تفلیس به زبان ترکی منتشر میشد علت
عقبماندگی ایران را ناآگاهی و جهل میدانست. در این مجله گروهی از شاخصترین روشنفکران، نویسندگان و شاعران قفقاز گرد هم آمده بودند و صدای گروههایی مانند زنان، کودکان، پیشهوران و کشاورزان بودند. نشریهی دیگری که به جریان مشروطه در ایران کمک فراوانی نمود روزنامه اختر بود، این روزنامه در استانبول منتشر میشد. استانبول مرکزی برای آزادیخواهان عصر قاجاری بود. اختر در مناطق عثمانی، قفقاز، عراق و هندوستان از شهرت بسیاری برخوردار بود؛ روزنامه اختر به مدت 20 سال جلوهگاه افکار ایرانیان از وطن دور افتاده بود. این روزنامه با سبک تند و انقلابی مخالف رژیم استبدادی بود. اختر ضمن نقد قرارداد تنباکو، به شیوههای حکومتداری، قانون، آموزش و پرورش جدید و سیاست خارجی و نقش دول خارجی در ایران هم توجه داشت.
بررسی آراء و اندیشه سیاسی مونتسکیو و روسو در آثار نریمان نریمانف
با توجه به نمایشنامه نادرشاه
حسن فرضی پور، نگار عزتی آراسته پور
دانشجویی دکتری مطالعات تئاتر، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
کارشناس ارشد تهیه کنندگی، دانشگاه صداو سیما، تهران
نریمان نریمانف نمایشنامه نویس و انقلابی، در راستای یک اندیشه سیاسی خاص همزمان با مبارزات سیاسی خویش آثاری را نیز در ادبیات نمایشی خلق کرده است که در دوران انقلاب مشروطه ایران به لحاظ سیاسی و نمایشی مورد توجه قرار می گیرد در واقع متن نمایشی برای نریمانف به عنوان یک بیانیه سیاسی،چراغی راهنمایی است برای استفاده سیاسیون دوران مشروطه، از این جهت نمایشنامه نادر شاه به عنوان یک سند، سعی در بیان نقطه نظرات سیاسی نریمانف نیز دارد. در واقع اهمیت نریمانف در پایه گذاری نوعی اندیشه سیاسی؛ سوسیال دموکراسی به مدد نشر آثارش است. سوسیال دموکراسی (اجتماعیون عامیون) به عنوان یک حزب سیاسی نقشی پیشرو و انکار ناپذیر در تحولات مشروطه ایران دارد. و از همان ابتدای کارش از تئاتر برای بیان عقاید خویش استفاده می کند. بدین ترتیب تئاتر و سیاست در کنار یکدیگر برای توسعه هم مورد استفاده قرار می گیرند و تئاتری سیاسی و سیاستی نمایش گونه خلق می کنند. ابتدا در راستای تبین مقاله به بررسی نظرات مونتسکیو در باب قوانین، شکل حکومت و آراء روسو در رابطه با قرارداد اجتماعی و رابطه دولت و ملت می پردازیم تا بدین ترتیب قوانینی را جهت یک الگو دستیابی شود. این مقاله به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و به تحلیل محتوای یک نمایشنامه به عنوان نمونه موردی می پردازد.
اشارات به هویتهای سیاسی و جمعیتی مادی و ارمنی پیش از هزارهی یکم پیش از میلاد
سورنا فیروزی، اردلان کوزهگر
کارشناس ارشد باستانشناسی، کارشناس ارشد ژنتیک (نویسندهی مسئول)
کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان
باور رایج فعلی، در عالم علومی چون باستانشناسی و تاریخ، پیشینهی وجود ماد و ارمنستان را قبل از تمدنهای اورارتو و آمادای به رسمیت نمیشناسد. با این حال در برخی نوشتههای یونانی برخلاف باورهای باستانشناسی رایج امروزین، گزارشهایی از بودن سرزمینهای ماد و ارمنستان پیش از اورارتو و آمادای در هزارهی یکم پیش از میلاد ارائه کردهاند. این که چه مستنداتی از نظر میدانی دربارهی اثبات وجود چنین مردمانی و نیز چنین هویتهای سیاسیای در هزارههای پیشینتر میتوان یافت، و یا اینکه این گزارشها به دور از مدارک اثباتگر میدانی هستند، هدف این مقاله را تشکیل میدهند.
علت برخورد و گسترش زبان ترکی در مناطق تالش
حمید رضا قربانی
در تالش عامل زبانی مانند افریقای سیاه و یا هندوستان نقش اصلی را به عهده دارد و تالشها کسانی هستند که به تالشی تکلم میکنند که مانند گیلکی و تاتی یعنی زبان همسایگانشان به گروه شمال غربی زبانهای ایرانی تعلق دارند.ارتباط بین عامل زبانی و مدهبی در تالش نیز مانند شبه قاره هند بسیار ناقص است.بدین معنی که فقط تالش مرکزی و قسمتی از شمال منطقه یک اقلیت مذهبی سنی شافعی را تشکیل میدهند و بقیه آنها مانند همسایگان گیلک وترکها به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه اثنی عشری معتقدند.(مارسل بازن.جلد1.ص22)
از دیدگاه محدوده جغرافیایی تالشها ثابت است،ولی در داخل این محدوده نفوذ فرهنگ ترکی به حدی زیاد است که حتی به ترک زبانی گراییده اند،به ترکی گراییدن برخی از روستا های شمالی تالش به یکدستی زبانی منطقه آسیب رسانده است.(مارسل بازن.همان.ص25)
تالش سرزمین وسیعی است ،موقعیت جغرافیایی این قوم باعث شده است که کوههای غربی رشته کوه البرز غربی به کوههای تالش متصل شده است و پل ارتباطی بین کوههای آرارات و البرز میباشد.درگذشته اقوام متععدی در همسایگی این قوم وجود داشت که همه این زبانها از فارسی باستان و پهلوی منشعب میگردد و تاتها وگیلها و گالشها با هم در ارتباط بودندولی پس از اسلام و با حمله اقوام ترک نژاد آسیای مرکزی مانند سلجوقیان و غزنویان و مغولها وقاجاریان به ایران زبان ترکی در بیشتر نقاط تات نشین آتروپاتگان ترویج و گسترش یافت. امروزه اگر بخواهیم علت اصلی گسترش و ترویج زبان ترکی در تالش را بدانیم، موقعیت جغرافیایی و مجاورت با مناطق ترک زبان و قرار گرفتن در مسیر تردد بین المللی را باید بیشتر بررسی نمود و باید بگوییم که بیشترین تاثیر را داشته اند و همچنین خوانین ترک زبان دوره های قاجار که از حکام و امرای محلی بودند،نیز از عوامل مهم بر شمرد.
در قلمرو کنونی تالش به سه حوزه بزرگ تقسیم بندی نماییم ودر درون آن باید به چندین بخش کوچک تقسیم کرد:
-
بخش شمالی که نزدیک مناطق ترک نشین هستند به استثنای عنبران و نمین،بیشتر تحت تاثیر ترک زبانند و نفوذ زبان ترکی تا خود شهر هشتبر از شمال بیشتر است ولی در این میان مناطقی مانند کشلی و جوکندان کمترین تاثیر را دارند البته مناطق کوهستانی و کوهپایه ای مناطق خطبه سرا و لیسار و هشتبر را نیز باید به این مناطق استثنا ها افزود چون کمتر ترکی در آنجا نفوذ نموده است.
-
بخش مرکزی مانند طولارود و اسالم وکیسوم و پرسر ،پونل ، رضوانشهروماسال و شاندرمن که کمتر تحت تاثیر زبانهای بیگانه قرار گرفته اند و تقریبا تالشی صحبت میکنند ولی گویش آنها با هم تفاوت کمتری دارند.البته باید به این مناطق قسمتهای کوهستانی و کوهپایه ای فومنات و شفت را نیز افزود.
-
بخش جنوبی که بیشتر تحت تاثیر زبان گیلکی قرار گرفته اند که در اینجا مناطق جلگه ای و اداری مناطق فومنات و شفت ورودباررا نیز افزود ولی در رودبار منطق کوهستانی تالشی تکلم میکنند ولی در بخشهایی هم زبانهای کردی و لری نیز صحبت میکنند که اینها مهاجران تبعیدی هستند.
اجتماعات بشری پیوسته در حال دگرگونی و تحول درونی است.جوامع به دلایل مختلفی با یکدیگر برخورد میکنند که در نتیجه این برخورد زبان آنها و مهمتر از همه فرهنگ آنها با یکدیگر برخورد پیدا
میکنند و از همدیگر تاثیر میپذیرند. این دلایل برخورد ممکن است اجتماعی ،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی وجغرافیایی باشد .اصطلاح برخورد زبانی به اشکال مختلف تماس دو زبان و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر تعبیر میشود، و جنبه های گوناگون دوزبان گونگی ،قرضگیری زبانی،تداخل زبانی و همگرایی زبانی و زبانهای میانجی و آمیخته را برای آنها قائل شد . که توضیحات هر کدام خارج از محدوده ما و نیاز به تحقیق بیشتر و دقیقتر این برخورد زبان تالشی و ترکی میباشد.
واژه دوزبان گونگی را فرگوسن به نوع خاصی از استاندارد شدن اطلاق میکند ،که در آن دو گونه زبان مختلف در کنار یکدیگر در یک جامعه وجود داشته اند.هر گاه دوجامعه زبانی با یکدیگردر برخورد قرار گیرند ممکن است عناصری از دوزبان بر یکدیگر نفوذ کنند.دوزبانه شوند و در کنار یکدیگر قرار گیرند.یا تاثیر چندانی بر روی هم نداشته باشند . زبانی جدا حاصل از برخورد دوزبان بوجود آید شهرتالش نیز از این قانون مستثنا نیست.البته درحوزه شمالی و جنوبی با یکدیگر متفاوت هستند.
بررسی تأثیر محیط ادبی و فرهنگی قفقاز بر آثار و اندیشههای سید اشرفالدین گیلانی (نسیم شمال)
هادی قلیزاده
دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
زبان و ادب فارسی، نقشی پررنگ و دیرینه در پیوندهای فرهنگی تاریخی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز دارد و وجود عناصر مشترك فرهنگي، سرنوشت تقريباً مشتركي را در حوزههای فرهنگ و ادبیات این سرزمینها رقم زده است. انتشار روزنامـهای طنز با نامملانصرالدين که همزمان با آغاز جنبش مشروطهخواهی ایرانیان در قفقاز منتشر میشد، از جملۀ عناصر فرهنگی بود که بر ادب فارسي و شاعران و نویسندگان بزرگ این دوره در ایران تأثیر فراوان داشته و طنـز پـردازان بزرگ ايـن دورۀ ايـران از جمله علیاکبر دهخدا و سیداشرفالدین گیلانی (نسیم شمال) را تحـت تـأثيرعميق خود قرار داده است. مقايسه میان اشعار صابر و سيداشرف و بررسی نمونههاي اشعار آنها تآثیرپذیری فراوان نسیم شمال از شعر صابر را نشان میدهد. سید اشرف، در نگارش بسیاری از اشعارش، کوشش میکند تا با به کارگیری عناصر فرهنگ عامه و توجّه به زبان مردم کوچه و بازار، از آنها در جهت آفریدن فضای داستانی و تاثیرگذاری بر مخاطب استفاده نماید و به صورتی مطلوب از عناصر فرهنگ عامه بهره برد. اين بررسي نشان ميدهد که این تأثیرپذیریبیشتر بر کدام بخش متمرکز بوده است و دلایل توجه به آنها را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.
نگاهی به مضامین اشعار فولکلوریک تالشی مرکزی
یاسر کرم زاده هفتخوانی
کارشناس ارشد ایران شناسی
اشعار فولکلوریک تالشی بخش اعظمی از ادبیات فولکلوریک تالشی را تشکیل میدهد. این اشعار با ویژگی شفاهی بودن و نقل سینه به سینه ی آن، در حال تغییر، فرسایش و فراموشی اند. با مطالعه ی این آثار شفاهی میتوان به خلق و خوی، مذهب و بسیاری از خصوصیات دیگر مردم تالش دست یافت. این اشعار اغلب در قالب دوبیتی و ترانه سروده شده اند که نشان دهنده ی احساسات و عواطف این مردم در شرایط خاص زندگی است. دوبیتی های یافت شده را از لحاظ محتوایی به چهار بخش عاشقانه، مذهبی و عارفانه، طبیعت و شکوه از روزگار تقسیم کردیم. در منطقه ی مورد مطالعه، به این دوبیتی ها، «دَستون» می گویند که غالباً دارای محتوایی عاشقانه اند. تصویر معشوق و درد و دل های عاشقانه، و از طرفی نیز شکوه و شکایت عاشقانه در این ابیات به چشم میخورَد. بخشی از این دوبیتی ها نیز دارای مضامین مذهبی و عرفانی اند که نشان دهنده ی تأثیر و جایگاه مذهب در میان این مردم است. البته نباید از نظر دور داشت که دوبیتی های عرفانی در تالش بسیار نادر و کمیاب اند و در این تحقیق با توجه به محتوای مذهبی، نتوانستیم محتوایی صرف عرفانی را ارایه دهیم. ترانه های موجود نیز بر حسب مضمون، به دسته های کوچک تر ترانه های عاشقانه و بزمی، حماسی، ترانه های کار، ترانه های کودکانه و لالایی ها تقسیم می شوند. نگارنده قصد دارد با روش مطالعه میدانی و مطالعه کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل محتوایی اشعار فولکلوریک منطقه ی خرجگیل اسالم بپردازد. این مطالعه هم در شناخت ادبیات این مردم به ما کمک میکند، هم از بعد مردم شناسی دارای اهمیت است. نیز از نگاه وسیع تر گامی است در مطالعات ایران شناسی. با توجه به موقعیت جغرافیایی، اجتماعی و مذهبی منطقه ی مورد تحقیق، انتظار میرود که بسامد اشعار فولکلوریک مذهبی و عرفانی این منطقه نسبت به دیگر مناطق تالش بیشتر باشد و نیز فرم و شکل موضوعات شعری، محتملاً بهتر از مناطق دیگر حفظ شده است.
کُردشناسی در ارمنستان
نادركريميان سردشتي
عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری
پیوندها و روابط تاریخی و فرهنگی کردها و ارمنیها مطابق اسناد و مدارک به دوره مادها برمیگردد که در در اواخر سده هفتم پیش از میلاد ارمنیان به رهبری باروبر به دولت مادها در براندازی دولت آشور یاری دادند، و به پاس این خدمات باروبر ( رهبر ارمنیان) به عنوان پادشاه ارمنستان تاجگذاری کرد. از این پس دو ملت کُرد و ارمن به سبب همجواری و همسایگی در طول تاریخ پیوندهای فراوان در عرصههای گوناگون سیاسی – فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی داشتهاند. آنچه در این جستار به دنبال تبیین آن هستیم اینکه مطالعات و پژوهشهای حوزه کُردشناسی در ارمنستان و دانشمندان و پژوهشگران ارمنی از چه جایگاهی برخوردار بوده و دامنه این مطالعات که به نوعی ایرانشناسی و خاورشناسی نیز محسوب میشود تا چه حد و حدودی میباشد. البته ناگفته نماند جمعیت قابل توجهی از کردهای کرمانج (غالباً با آیین ایزدی) در ارمنستان زندگی میکنند که هنوز آمار حقیقی از آنها گزارش و ثبت نشده است.
در سالیان اخیر نیز با توجه به جمعیت قابل توجه کُردها، قانون گزاران ارمنی، آموزش زبان کُردی را در ارمنستان رسمیت بخشیدند و در سایر امور شهروندی هم حقوق شهروندان کُرد را از هر لحاظ در قوانین مدنی و عمومی خود تصویب و تثبیت کردند. تاریخ مطالعات کُردشناسی در ارمنستان علاوه بر مطالعات و پژوهشهای محققان پژوهشگران کُرد تا قبل از انقلاب اکتبر، اساساً به دوره پس از انقلاب اکتبر بر میگردد که دو مرکز خاورشناسی مسکو و سنپطرزبورگ (لنینگراد) آن را بر اساس خط مشی نوین رهبری میکردند و سپس با گسترش آکادمیها در دوره شوروی سابق به سایر جمهوریها، جمهوری ارمنستان نیز دارای انستیتو خاورشناسی گردید. و بخش خاورشناسی آکادمی علوم ارمنستان در اکتبر 1958 میلادی از انستیتو تاریخشناسی مجزا شد، و به صورت تشکیلات و انستیتوی مستقل به کار خود ادامه داد. انستیتو خاورشناسی ارمنستان در آغاز راه از نظر اداری دارای هیجده نفر پژوهشگر و کارمند علمی بود ولی پس از پنج سال به سال 1963 میلادی دارای چهل و یک کارمند علمی گردید و انستیتو خاورشناسی در پنج شعبه گوناگون فعالیت میکرد: 1) ایران شناسی، 2) ترکشناسی، 3) عربشناسی)، 4)کُردشناسی، 5) شعبه منبعشناسی و انتشارات اخبار علمی. در شعبه کُردشناسی برنامه علمی خود را بر اصول پژوهشهای مسایل مربوط به پیوستگی نژادی کُرد و تاریخ و اقتصاد معاصر این ملت تنظیم کرد.
به هر روی انستیتوی خاورشناسی ارمنستان جایگاه ویژه و برجستهای را به «کُردشناسی» اختصاص داده است. البته باید گفت پیش از تأسیس این شعبه، مطالعات کُردشناسی نیز مورد اهتمام و توجه دانشمندان و روشنفکران ارامنه بود و محققانی همچون: هوسپ، اربلی، خاچاتور آبوویان، س.یغیازاریان، س.هایکونی، هاکوپ قازاریان مطالعات گسترده و عمیقی در این زمینه انجام داده و کردشناسان متعددی را تربیت کردند.
در دوره جدید، شعبه کردشناسی انستیتو خاورشناسی پژوهشهای جدید و تالیفات و آثار فراوان تولید و تدوین و منتشر شد که نمونههایی از آن اشارت میرود:
-
انعکاس دوستی ملل ارمنی و کُرد در فولکلور کُردی تالیف حاجی جندی.
-
افسانههای کُردی در دو جلد – تالیف حاجی جندی.
-
قصاید قهرمانی (حماسی) کُردها – تالیف حاجی جندی.
-
خصوصیت خانواده کُردی و پیوستگی خویشاوندی آنها – تألیف امین آودال.
-
کردهای ارمنستان – تالیف خ. چا توییف.
-
مبارزه آزادیخواهانه کُردها در عراق تالیف: ش . مهو.
-
پیوستگی نژادی کرد و کردستان در اوایل قرون وسطا – تالیف آلوپوف و دهها آثار دیگر که در اصل گزارش معرفی و شناسانده خواهند شد.
چاپ و انتشار این آثار در ارمنستان خود پایهای برای مطالعات کُردشناسی بود و پس آن درباره تاریخ کُردها و زبان کُردها و آیین کردها ( به ویژه ایزدیان ارمنستان) کتابهای فراوان نگاشته شد.
از دیگر مراکز کُردشناسی ارمنستان میتوان از دانشگاه ایروان یاد کرد. از سال 1940 میلادی بخشی به نام زبانشناسی شرقی تأسیس شده بود که زبانها و گویشهای ایرانی و کُردی را نیز شامل میشد که بعدها در سال 1968 به جای آن دانشکده خاورشناسی، تاسیس گردید. بخشی از مطالعات و پژوهشهای این دانشکده در حوزه کُردشناسی بود.
در حوزه مطبوعات نیز مجله ایراننامه (نشریه ماهیانه آکادمی علوم جمهوری ارمنستان) که از سال 1993 م منتشر میشد بخشی از مقالات و پژوهشها را به مباحث کُردشناسی اختصاص داد از جمله میتوان مقالات: «دین در کردستان در اکثریت سنی مذهب، نقش طریقتهای متصوفه)»، «یادداشتهایی پراکنده در باب مسئله کردستان» (شماره 3 و 4 و ماه اوت و سپتامبر 1993 م) را یاد کرد. در همین ماهنامه کتابهای چاپ ایران نیز مانند «کُردهای ایران» از نصرالله کسراثیان نیز مورد نقد و بررسی و معرفی قرار گرفتهاند. این جستار میتواند چشماندازی از تاریخچه روابط و فرهنگی ارمنستان را در دو حوزه ایرانشناسی و کُردشناسی گزارش نماید که تاکنون کمتر بدان اهتمام شده است.
مناسبات فرهنگی ایران و روسیه پس از انقلاب اسلامی
حسین کلهر
گزارشگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گیلان، رشت
با گسترش روز افزون پديده ي جهاني شدن ، نقش و جايگاه مناسبات فرهنگي در توسعه روابط همه جانبه ی کشورها بوضوح نمایان است و بهره گيري از ظرفیت های بالقوه ی فرهنگي در توسعه و تعميق روابط دولتها عاملي ارزشمند و اثر گذار محسوب می شود. به همین دلیل دولتها روز به روز از اين عامل مهم براي رسيدن به اهداف سیاسی و اقتصادی خود بهره گیری می نمایند. به عبارت ديگر اولويتهاي سياست خارجي كشورها نيز بر اساس اشتراكات فرهنگي ، زباني و مناسبات ادبي ملتها تعيين مي شود. بي شك اثرات اين عوامل در روابط دو كشور ايران و روسيه نيز قابل اغماض نیست. نکته ی مهم اینکه مناسبات فرهنگی ایران و روسیه پیشینه ایی 500 ساله دارد اما در چهار دهه ی گذشته در ارتباطات سياسي ،اقتصادي و جهت گيريهاي استراتژيك دو كشور چندان به چشم نمی آید. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه روابط فرهنگی در روند مناسبات ایران و روسیه است. عاملی که می تواند در طلیعه ی هزاره ی سوم منشا تحولات سازنده ایی برای ارتقاء مناسبات همه جانبه ی دو کشور باشد.
داده های این مقاله به شیوه ی کتابخانه ایی ، توصیفی و میدانی جمع آوری شده بطوریکه بهره گیری از اسناد و منابع تاریخی ، شواهد عینی و مستندات آماری از وجوه بارز این شیوه است.
در این مقاله پس از بررسی عمده ترین ظرفیت ها و چالش های پیش روی روابط فرهنگی دو کشور درمی یابیم که عوامل قوت بخش و بازدارنده در توسعه ی روابط فرهنگی ایران و روسیه چه بوده و نقش استانهای هم مرز دو کشور در تحکیم آن چگونه است. بر همین اساس پیشینه ی مناسبات همه جانبه ی گیلان با روسها بویژه آستاراخان عاملی در جهت پایداری مناسبات فرهنگی ایران و روسیه تلقی می شود و می تواند روند تعمیق روابط دو کشور را در ابعاد گسترده تری تسریع نماید.
ظرفیت های فرهنگی دو کشور برای توسعه ی مناسبات همه جانبه و پایدار عدیده است. از این ظرفیت ها تاکنون آنگونه که باید و شاید برای تقویت مناسبات اقتصادی – تجاری و حتی سیاسی بهره گیری نشده است. پیشینه ی مراودات اقتصادی و بازرگانی گیلانیان با روسها در 500 سال گذشته شرایطی فراهم ساخته تا بتوان گام های موثری در جهت آشنایی اقوام یکدیگر در بستر فرهنگ و گردشگری برداشت. خط احداث کریدور شمال - جنوب موسوم به نوستراک نیز بر این اهمیت افزوده است. همچنین ورود واژگان فارسی و روسی در زبان های یکدیگر گواهی بر نقش تبادلات فرهنگی مردم استان های هم مرز دو کشور بویژه گیلان و آستاراخان در ازمنه ی تاریخ است. پس می توان ادعا نمود که تقویت مناسبات فرهنگی ایران و روسیه خود زمینه ایی ست تا روابط دو کشور وارد مرحله ی نوینی شود و نقصان های موجود در مناسبات فعلی را با تقویت پایه های فرهنگی جبران نماید.
روابط ارمنستان و ساسانی در دوره سلطنت اردشیر اول ( 241- 224 .م )
حسن کهنسال واجارگاه، انوش مرادی یاسوری
دانشگاه گیلان
روابط ایران و ارمنستان دارای سابقه طولانی است . آغاز این روابط از دوره تاریخی ایران باستان و از دوره ماد ( 559-708 . ق. م. ) می رسد . در کتیبه های هخامنشی ، از ارمنستان به عنوان یکی از ایالت های امپراطوری هخامنشی ( 330 – 559 ق. م ) ذکر شده است . در دوره امپراطوری اشکانی ( 224م – 250 ق.م )به دلیل اختلافی که بر سر ارمنستان با امپراطوری روم به وجود آمد، قرارداد رهندیا میان آن دو امپراطوری منعقد گردید که بر اساس آن ، قرار شد که شاه ارمنستان از نژاد اشکانی باشد اما تاج و تخت از روم .
با تشکیل امپراطوری ساسانی ( 651 – 224 م ) دوره جدیدی در روابط ایران و ارمنستان آغاز گردید که می توان آن را به دو مرحله متمایز تقسیم کرد : با مرگ اردوان پنجم بعنوان آخرین پادشاه اشکانی و سقوط امپراطوری اشکانی توسط اردشیر اول ،روابط ارمنستان به تیره گی گرایید . در مرحله اول روشی را که ارمنستان در قبال ساسانیان در پیش گرفت ، روش حمله نظامی مستقیم بود . قصد بر این بود که با این حملات انتقام اشکانی ها را از ساسانیان بگیرند . در این راستا تلاش کردند از مساعدت ها و همراهی خاندان اشکانی ساکن در قلمرو ساسانی استفاده کنند که در این زمینه توفیقی به دست نیاوردند. به گفته موسی خورنی ، ارمنی ها از امپراطوری روم نیز تقاضای کمک کردند اما امپراطور به دلیل مسایل و مشکلات داخلی ، از ایالت ها ی تابعه امپراطوری خود، از مصر تا پونت ، درخواست کمک نظامی را به ارمنی ها را کرد. آگاتانگ اشاره می کند که در طی ده سال ( 237- 227 م ) خسرو پادشاه ارمنستان به مرزهای امپراطوری ساسانی حمله کرد و علاوه بر به دست آوردن غنایم ، صدمات زیادی بر آنها وارد کرد.
در برابر ، ساسانی ها نتوانستند واکنش مناسبی در قبال ارمنی ها داشته باشند از طرف دیگر ارمنی ها هم موفق به از میان بردن ساسانی ها نشدند.
مرحله دوم روابط ، دیپلماتیک است که از طریق ساسانی ها اعمال شد. پادشاه ساسانی اردشیر اول از طریق خدعه و حیله و دادن مهاجرت آناگ و خانواده او به ارمنستان در سال 237م ، توانست اعتماد خسرو ارمنستان را به آناگ جلب و او توانست بعد از دو سال ( 239 م ) پادشاه ارمنستان را به قتل برساند . با مرگ او ، ساسانی ها بر ارمنستان مجددا مسلط شدند . بعد از این زمان ارمنی ها سعی کردند با همکاری روم در صدد تضعیف ساسانی ها بر آیند. به گفته هرودین ، به دلیل تنازعات مرزی و تجاوزات اردشیر اول ، الکساندر سور برای جلوگیری از این امر ، به شرق لشکر کشی کرد . سپاهیان روم به سه گروه تقسیم شدند. یکی از سه گروه سپاه ، از شمال از طریق عبور از ارمنستان و ماد قصد حمله به ساسانی ها را داشت. شاه ارمنستان تمامی شرایط و امکانات لازم را در اختیار رومی ها قرار داد . این عملیات روم بر علیه ساسانی با همکاری ارمنی ها توفیقی برای آنها به همراه نداشت .در این مقاله نویسندگان با استفاده از منابع کتابخانه ای و کتیبه ها به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته اند .
بررسی و مقایسهی تطبیقی جشنهای مشترک میان ایران و ارمنستان
معصومه کیانپور
دانشآموختۀ کارشناسیارشد گیلانشناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
جغرافیای هر منطقه میتواند بر اندیشه و شیوهی زندگی و به طور کلی در ساختار فرهنگی، اجتماعی مردم، تأثیرگذار باشد.برای شناخت صحیح هر قوم، باید فرهنگ و آیینهای آن را مورد مطالعه قرار داد.مراسم وآیینهای هر قوم،آینهی تمام نمای اعتقادات، فرهنگ، تاریخ، اسطوره و به طور کلی، میراث معنوی آنهاست. جشنها یکی از مهمترین عناصر فرهنگ هر سرزمین به شمار میرودکه ریشه در باورداشتهای باستانی مردمان آن دارد. این باورها میتواند به دلیل تشابهات فرهنگی جامعهای با جامعهای دیگر، جشنهای مشترکی را فراهم آورد.روابط میان ایران و ارمنستان با تاریخی چند هزارساله از یک سو و همسایگی این دو قوم از سویی دیگر، پیوندی عمیق میان آنها ایجاد کرده است؛ چنانکه از دیرباز تا به امروز، ارمنیان و ایرانیان جشنهای مشترکی در زمانهای مختلف داشتهاندکه ازآن جمله میتوان به جشن چهارشنبه سوری ایرانی و دیارنداراج ارمنی، جشن نوُسَرد ایرانی و ناواسارد ارمنی، جشن برغَندان ایرانی و باریگنتان ارمنی، جشن گل و آب ایرانی و وارتاوار ارمنی اشاره نمود. از این رو پژوهش حاضر قصد دارد، به موازات مطالعهی این جشنها، به بررسی عقاید، عادات، فعالیتهای مردم این دو سرزمین در این جشنها بپردازد. پیکرهی دادههای مقالهی حاضر به روش کتابخانهای گردآوری شده و سپس در ارتباط با موضوع مورد بحث، به توصیف و تحلیل درآمده است. نگارنده در این نوشتار نشان میدهد که جشنهای مشترک میان ایران و ارمنستان از دیروز تا حال، بیشترصورت مذهبی و نیزآئینی داشته است که برگزاری آنها در پوشش مراسم مذهبی با تشریفات خاص همسو با باورداشت های آنها انجام میگرفت که کمکم در گذشت زمان، برخی رنگ باختند و برخی تبدیل به رسوم عادی، تفریح و شادی همگانی شدند.
جنگها و فتوحات نادرشاه در قفقاز
احمد لعبت فرد، میر صادق حسینی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
کارشناس ارشد تاریخ مطالعات قفقاز و آسیای مرکزی دانشگاه تهران
قفقاز از زمان باستان تا حال حاضردارای اهمیت استراتژیک بوده و قدرتهای بزرگ مختلفی بر سر این منطقه با یکدیگر به رقابت پرداخته اند. ایران ، عثمانی و روسیه تزاری برای چندین قرن بر سر تسلط بر قفقاز با یکدیگر در حال چالش ومنازعه بودند و در این راه برخوردهای مهمی نیز بین آنها به وقوع پیوسته است. قفقاز از گذشته های دور تا حال حاضر جایگاه مهمی در سیاست های حاکمان ایرانی داشته و پادشاهان ایرانی نیز با توجه به میزان قدرتشان سعی در اعمال نفوذ در قفقاز داشته اند.
سقوط دولت صفوی در ایران و فقدان حکومت مرکزی قدرتمند قفقاز را صحنه منازعات ورقابتهای دولتهای عثمانی وروسیه با ایران نمود. دولت عثمانی به بهانه حمایت از همکیشان سنی خود ودولت روسیه به بهانه حمایت از مسیحیان قفقاز شروع به قدرت نمایی وتصرف مناطق مختلف قفقاز نمودند. ظهور نادر در صحنه سیاسی ایران سبب شدکه دولت های روسیه وعثمانی ، برسر مسایل قفقاز با نادرشاه وارد منازعات جدی وبلند مدت شوند. نادرشاه به مدت یک دهه با انجام جنگهای طولانی مدت در ارّان و شروان ،ایروان ،گرجستان وداغستان توانست حاکمیت ایران بر قفقاز را احیا کند. سیاست های واقع گرایانه و حساب شده نادرشاه در قفقاز جدایی قفقاز از ایران را تا اوایل دوره قاجاریه به تعویق انداخت. هدف این مقاله بررسی فتوحات سیاسی نادرشاه قبل ویعد از سلطنت در منطقه قفقاز می باشد.
مطالعه و مقایسه تطبیقی موسیقی صوفیه در ایران و آناتولی
فخرالدین محمدیان، خدیجه شریف کاظمی، سید رسول موسوی حاجی
دانشجوی دکترای باستان شناسی، دانشگاه بابلسر، مازندران (نویسنده مسئول مکاتبات)
دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه بابلسر، مازندران
رابطة موسیقی و تصوف، حقیقتی است عمیق که در نحوة اثر گذاشتن این موسیقی در تصوف، به سیر و سلوک آنان مرتبط است. عمق این موسیقی انسان را از این جهان مادی کنده و ریشة شجرة وجود او را در عالم معنی میتند. در حقیقت صوفیان از این امر آگاهی کامل داشتند، و سماع و موسیقی را برای تکامل نفسانی که همان غلبه بر شهوت حیوانی است، جایز میشمردند. در گذشته و حال، عرفان و تصوف اسلامی در سرزمینهایی چون ایران و آناتولی، همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده است. در این پژوهش سعی بر آن است که با مطالعه تطبیقی و مقایسه جایگاه و چگونگی موسیقی عرفانی مسلک مولویه در آناتولی و مسلکهای یارسان و قادریه در ایران پرداخته شود. این پژوهش با روش تطبیقی– تحلیلی و گردآوری دادهها با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است. هدف از این پژوهش شناخت موسیقی آیینی و عرفانی ایران و آناتولی و ارتباط معنادار آنها است. نتایج مطالعات نشان میدهد که موسیقی به عنوان یکی از ارکان اصلی رفتارهای فرهنگی این مسلکها، علاوه بر اینکه از جایگاه والایی برخوردار است ارتباط معناداری را بین این مسلکها پدید آورده است.
مطالعه تطبیقی نقوش به کار رفته در منسوجات ایران و آسیای صغیر دوره سلجوقی
عباسعلی مدیح
دکترای قوم شناسی تاریخی و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
پس از فتح آسیای صغیر توسط سلجوقیان حکومت سلاجقه روم تشکیل شد. به تدریج حکومت سلجوقیان روم در آسیای صغیر زمینه ای برای رشد و توسعه روابط فرهنگی و هنری سرزمین های ایران و آسیای صغیر گردید. این شرایط، تأثیر خود را بر بسیاری از هنرها از جمله منسوجات بر جای گذاشت. منسوجات، افزون بر ارزش های کوششی، دارای مفاهیم نمادینی در حوزه فرهنگ جامعه، با حفظ سنت های پیشین بود. از ویژگی های این منسوجات، تنوع نقوش به کار رفته در آن است. این تصاویر اغلب به صورت نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و اسطوره ای است. این پژوهش سعی دارد با مطالعه تطبیقی مضامین نقوش به کار رفته در منسوجات سرزمین ایران و آسیای صغیر در دوره سلجوقی، به وضعیت چگونگی تعامل این فرآیند بپردازد. نتایج مطالعات نشانگر تعامل دوسویه در آفرینش هنر منسوجات این دو سرزمین است. باید افزود هنرمندانی که در این عرصه فعالیت می نموده اند از مفاهیم و آرایه های تزئینی نمادین مطلع بوده و آگاهانه آنها را به کار می بردند. این پژوهش از نوع تاریخی – تطبیقی و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است. هدف از این پژوهش تبیین چگونگی ارتباطات فرهنگی، هنری و همچنین شناخت وضعیت منسوجات ایران و آناتولی در دوره سلجوقی است.
تأثیر جریانات فکری و اندیشه ای قفقاز در انقلاب مشروطیت
انوش مرادی یاسوری
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
انقلاب مشروطیت ایران نتیجه علل و عوامل متعدد داخلی و خاجی بوده است . یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار فکری و اندیشه ای در شکل گیری و تداوم انقلاب مشروطیت ، نقش چند جانبه منطقه قفقاز ، اعم از احزاب ، افراد و مبارزین قفقازی بوده است . بر اساس مفاد قراداد های گلستان و ترکمنچای مناطق قفقاز به روسیه واگذار و از کنترل دولت ایران خارج شدند. از طرف دیگر تعداد بسیار زیادی از ایرانیان به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی، فقر و بیکاری و اختناق ، به مناطق قفقاز از جمله آذربایجان ، گرجستان و ارمنستان مهاجرت کردند و در کارخانجات و مراکز مختلف صنعتی مشغول بکارشدند. حوادث و اتفاقاتی که در روسیه و خارج از روسیه رخ داد ، مانند شکست روسیه از ژاپن و بروز انقلاب 1905 م و نیز فعالیت احزاب اجتماعیون عامیون باکو و سوسیال دموکرات روسیه ، باعث گسترش افکار و اندیشه های آزادیخواهی و انقلابی در میان کارگران مهاجر ایرانی ، انقلابیون داخل ایران و برقراری ارتباط مستمر آزادیخواهان ایران و قفقاز شد و تاثیرات زیادی بر روند شکل گیری و مبارزات مشروطیت در ایران داشت . در این مقاله نقش فکری و اندیشه ای رهبران قفقاز نظیر طالبوف و مراغه ای، ایرانیان مقیم قفقاز، مجاهدان و حزب سوسیال دموکرات قفقازی در جریان انقلاب مشروطه با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .
مناسبات ایران و گرجستان در دورۀ شاه عباس اول صفوی 996- 1038 ق. 1587- 1629 م (تحلیل سیاستهای جنگی )
دکتر انوش مرادی یاسوری، دکتر حسن کهنسال واجارگاه
دانشگاه گیلان، رشت، ایران
سرزمین و اقوام گرجستان بخشی از واحد بزرگ قفقاز به شمار می آیند که همواره نقش بزرگی در تحولات تاریخ قفقاز و ایران داشته اند. تاریخ روابط بین ایران و گرجستان به دوره های تاریخی ایرن باستان بر می گردد. گرجستان از قدیم الایام به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، سیاسی ، مذهبی و سیاست توسعه ارضی همسایگان ، همواره مورد مناقشه و درگیری دولتهای ایران و روم و بیزانس بوده است . پس از ظهور اسلام نیز، در چهار راه عبور فاتحان با حملات و تاخت و تاز متعدد اعراب ، مسلمانان، ترکان ، مغولان و عثمانی قرار گرفته است . در طول سالیان متمادی ، مناسبات و روابط میان ایران و گرجستان تحت تاثیر عناصر فرهنگی و تاریخی مشترک قرارداشته است . در دوره پادشاهان صفوی بیشترین حملات به گرجستان روی داد. در زمان شاه عباس اول، بهانه جهاد و گسترش اسلام ، چرخش ها ی سیاسی و حملات نظامی گرجستان ، رقابت و تضاد منافع با عثمانی و روسیه بر سرگرجستان، کسب ثروت و منافع اقتصادی و نیز بهانه طرح عشق شاه عباس به زیبایی و دلنوازی دارژان خواهر لهراسب (فلسفی ، شاردن و پیترو دلا واله ) حملات و سیاست های جنگی شاه عباس رابه گرجستان تشدید کرد. پیامد اتخاذ این سیاست و حملات جنگی شاه صفوی به کشور گرجستان ، قتل و غارت و کشتار ، کسب ثروت و غنایم و کوچ اجباری گرجیان به ایران بود که بعدها همین گرجیان و ارامنه به ایفای نقش بارز و مهمی در تشکیلات اداری و نظامی و شکوفایی اقتصادی و تجارت عصر صفوی پرداختند. در این مقاله نویسندگان با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ، به بررسی و تحلیل تاریخی موضوع پرداخته اند.
نقشبندیه در قفقاز و سرچشمه های خراسانی آن
محمّدرضا موحّدی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
بر اساس اسناد تاریخی ، طریقۀ نقشبندیه از ناحیۀ بخارا به منطقۀ ولگای میانه راه یافت و به تدریج برخی پیروان طریقههای یسویّه و قادریه را در خود جذب کرد. این طریقه از طریق کردستان و شیروان به داغستان نیز رسید و در آنجا حضوری موثر از خود نشان داد و سپس در ناحیۀ چچن و غرب و میانۀ قفقاز پیروان پرشمار پیدا کرد. سلسلۀ نقشبندیه پس از ظهور و گسترش در ایران، در مناطق دیگری از جهان مانند ایالات غربی چین، تركیه، آسیای میانه، هند، افغانستان نیز مشتاقانی یافت .این طریقت در مناطقی چون: آسیای میانه، ترکستان، چین، هند، مالزی، ترکیه، خوارزم و ازبکستان فعلی نیزپیروانی داشته و دارد؛ تا حدی که می توان گفت در بسیاری از این مناطق، اسلامگرایی تحت بیرق این سلسله ، مجال رواج یافته است ؛ کما اینکه در حال حاضر مفتی روسیه ضیاء الدین بابا خان و پدرش به نام ایشان بابا خان (مفتی سابق ) هر دو از شیوخ نقشبندیه محسوب می شوند. وجود اندیشه های ظلم ستیز در میان مشایخ این طریقت و بویژه هنگام رهبری غازی محمد و پس از او توسط شیخ شامل، سومین امام نقشبندی شمال قفقاز، که در مناطق تحت حکومت خود شریعت را برقرار کرد ، سبب شد تا سال ها موج حرکت های جهادی در این مناطق ادامه یابد و به رغم خاموشی ظاهری این سلسله ، میراث نقشبندیه در دورههای بعد در چچن و داغستان همچنان نقش مهمی در شکلدهی به هویت دینی و پایداری قومی مردم این منطقه ایفاکند. در این مقاله با بیان تاریخچه ای از شکل گیری این طریقت، از خاستگاه اولیۀ نقشبندیان در خراسان بزرگ، و گسترش آن به دیگر مناطق و از جمله، قفقاز و آسیای میانه، سخن رفته و سپس از تاثیر گذاری های این طریقت بر رواج اسلام و نیز ظلم ستیزی این سلسله تا روزگار نزدیک به عصر حاضر، یادی شده و سهم فراموش شدۀ عارفان خراسانی در تحولات منطقۀ قفقاز بازنموده شده است.
در آمدی مردم شناختی بر مو در فرهنگ مردم ایران
سید هاشم موسوی
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی و رییس پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان
مو در فرهنگ و ادبیات پربرگ و بار جامعه ایرانی بازتاب گسترده ای دارد. واژگان، اصطلاحات، ضرب المثل ها، قصه ها، افسانه ها وباور داشت های پیرامون مو در این فرهنگ فراوان و چشمگیر هستند. امروزه، درادبیات مردم شناختی از " زبان های مو " بهره برده می شود و نقش این زبان در جنسیت و جنس ها قابل توجه هست غیر از اهمیت مو در میان زنان، ریش و سبیل از جمله صفات طبیعی و شاخص های مردانگی است. انواع و اقسام ریش و سبیل هرکدام نماینده نوع وابستگی فکری است. تغییر و تحولات در زمینه آرایش دختران در دهه های اخیر در جامعه ایرانی، کریستیان برومبرژه مردم شناس فرانسوی را وادار نموده است که از واژه " انقلاب ابرو " برای برداشتن ابروی دختران جوان که پیش از این تا زمان ازدواج انجام نمی شد استفاده نماید نقش قدرت های حاکم در تعریف ظاهر آرایش مو نیز تعیین کننده است. در همه ی فرهنگ ها و در همه جا ظاهر آرایش مو مرزی بین مطیع و طاغی را رسم می کند.آرایش و پیرایش مو تابع میل به تمایز است. ظاهر موها اطلاعاتی درباره جنسیت، سن، مرتبه و تعلقات قومی و مذهبی و نیز گرایش های زیبایی شناختی ارائه می کند. مقاله حاضر بازتاب مو در فرهنگ مردم را با استفاده از اسناد و مدارک و نیز فرهنگ مردم ایران آئینگی می کند.
اشتراكات فرهنگی ايران وارمنستان با تأکید بر زبان کردی
علي مهرابی، علي روشني زاده
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام، گروه علوم اجتماعی، ايلام، ايران
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام، گروه آموزش و پرورش ابتدايي، ايلام، ايران
در طول تاریخ، زبان باعث تقویت فهم مشترک میان ملتها بوده و پژوهش های دراز دامنی توسط زبان شناسان در زمینه رابطه ی زبان ارمنی با زبان های دیگر انجام گرفته است. در ارتباط با فرهنگ ایرانی این اشتراکات در حوزه آیین ها، افسانه ها و آثار کتبی با روشنی بیشتری بازنمایی شده است، چنانکه معابد مهرپرستی با نام مهیان و خدایانی چون میترا، ناهید و تیر میراث مشترک این دو قوم اند. در اين مقاله با تاکید بر مهمترین عنصر فرهنگيیعنی زبان، و با مطالعه ی زبان ارمنی و زبان کردی به عنوان شاخه ای از زبانهای ایرانی غربی، برخی اشتراكات فرهنگي ايران و ارمنستان مورد مداقه قرار گرفته است. زبان ارمني يكي از زیر شاخه های زبانهای هندواروپایی است كه با بیش از بیست قرن سابقه ی مکتوب، با زبان پارسي پيوندي محکم دارد، از جمله خاستگاه مشترک هند و اروپایی، وام گیری این زبان ها از یکدیگر و ورود عناصری از زبانهای دیگر به این زبان ها، آنها را در هم تنیده است. برخی ادیبان ارمنی به زبان پارسی می نویسند و در زمانه ی ما، ارمنیان ایرانی تبار و ایرانیان ارمنی تبار نقش مهمی در نزدیکی فرهنگها و گفتگوی دو ملت ایفا می کنند. روش مورد استفاده تحلیل محتوا و براي جمعآوري دادهها از تكنيك مصاحبه بهره برده ایم که بر اساس اصطلاحات و لغات کردی مرسوم و گفتاری روزمره، و نیز مراجعه به فرهنگ واژگان ارمنی و مصاحبه با تعدادي از شهروندان دو کشور در مقاطع سني مختلف، مفاهیمی تدوین شده كه در هر دو زبان برای مقاصد و معانی مشترکی در حوزههاي غذا، صفات، اعداد و اشياء به کار می رود. بنابراین علیرغم تاریخ تحول زبان ارمنی، برخی مفاهیم پارسی چنان در آن جاگیر شده اند که در نگاه نخست قرابت چندانی با زبان پارسی ندارند، اما در زبان شناسی تاریخی آشکار شده که میراثی از گستره ی زبانهای ایرانی اند که به غنای ادبیات ارمنی افزوده اند و بیش از هفت و نیم درصد واژه های بنیادین زبان ارمنی، پارسی اند.حتی برخی از واژه های پارسی، ریشه در زبان پهلوی اوستایی دارند و این خزانه ی واژه های پارسی چنان در زبان ارمنی ترکیب شده که گاهی قدمتی دیرین تر از مهمترین سند زبانی هویتی ایرانیان، یعنی شاهنامه فردوسی دارند. شاید به این دلیل که سلسله های حکومتی در ایران پیوسته کوشیده اند، آثار و میراث نسل حاکمان قبل از خود را از بین ببرند و زبان ارمنی جای امنی برای خزانه ی مفاهیم پارسی بوده است.
بررسی برخی واژههای مشترک در زبان یغنابی و آستینی
سیفالدّین میرزایف
دکتر علم زبانشناسی، مدیر شعبة زبان، انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابوعبدالله رودکی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان
زبان یغنابی یا به گفتار مردم یغناب“یغناب زیواک”یکی از زبانهای بیخط و الفبا بوده، تنها در حدود جمهوری تاجیکستان انتشار یافته، ادامه زبان سغدی میباشد و متعلّق به گروه زبانهای شرقی ایرانیست. زبان دیگری، که به این گروه مربوط است، زبان آستینیست و آن در قسم مرکزی قفقاز جمهوری اوطانامی آسیتیة شمالی فدراسیون روسیه و ولایت اوطانامی آسیتیة جنوبی جمهوری گرجستان گسترش دارد. زبان آستینی هم به شاخة خانوادة زبانهای ایرانی داخل بوده، ادامه زبانی محسوب مییابد، که در گذشته با زبانهای قبیلههای اسکیف، مسّگیت، سک، سرمت، الن، راکسالن مربوط بود. آنها، که در آسیای میانه و روسیه جنوبی میزیستند، از این جهت شاخة زبانهای گروه شمالی شرقی زبانهای ایرانی را تشکیل میکردند.
در اوّل سالشماری نو پس از به قفقاز شمالی مهاجرت نمودن یکی از قبیلههای اسکیفی-سرمتیغلنها به تشکّل یافتن خلقیت آستین و زبان آنها اساس و پایة مستحکم و استوارتر گذاشته است.
زبان آستینی هم مثل زبان یغنابی دارای دو گویش شرقی و غربی میباشد. زبان آستینی از گویشهای ایرانی و دیگری سرچشمه گرفته است. از این گویشها لهجة دیگری نسبت به ایرانی کهنتر به حساب میرود، بنا بر این اساس زبان ادبی آستینی در پایة گویش ایرانی ساخته شده است. نخستین خطّ زبان آستینی کتیبة زیلینچوک میباشد، که آن سال 1888 کشف شده است. این کتیبه با الفبای یونانی بوده، متعلّق به سال 941 میباشد. سال 1844 ا. شیرگین الفبای آستینی را در پایة الفبای سریلیکساس ساخته است. از سال 1954 تا حال تمام آستین زبانها از الفبای روسّی اساس استفاده میکنند. اساسگذار زبان ادبی آستینی کاسته خیتگوراف شناخته شده است.
زبان یغنابی و زبان آستینی، که به یک شاخة زبانهای ایرانی (شاخة شمالی شرقی) تعلق دارند، بنا بر همین، بین آنها رابطه زیاد، به ویژه در قسمت لیکسیکی به مشاهده میرسد. از این رو، ما تصمیم گرفتیم این جهت مسئله را مورد آموزش و بررسی قرار دهیم. آموزش و پژوهش زبانهای با هم خویش برای شناخت وضع امروزة آنها دارای اهمیت و ارزش مهم میباشد. چنین پژوهش امکان میدهد، تا سیر تاریخی برخی از واژههای زبان، از جمله زبانهای شرقی ایرانی در مرحلههای معین تاریخی مقایسه شده، مورد تحقیق قرار گیرند.
کنایه و فرهنگ عامه
علی نصرتی سیاهمزگی
کنایه در زبان مردم آفریده می شود وو مردمی ترین پایۀ بلاغت است. کنایه ها مانند دیگر عناصر زبانی در حال مرگ و زایش اند. با از بین رفتن زمینه های آفرینش، کنایه ها از بین می روند و با ورود فرهنگ و فناوری کنایه هایی تازه آفریده می شوند. بسیاری از کنایه ها نیز جان سختاند و دیر از بین می روند.
فرهنگ عامیانه یکی از مهم ترین زمینه های پیدایش کنایه است. این زمینه دارای زیرشاخه های باورهای عامیانه، افسانه ها و آیین هاست. در باورهای عامیانه، کنایه ها بر آمده از خرافات و جادو بیشترین بسامد را دارند. کنایه ها بر آمده از آیینها هم از آیین های فرودستان جامعه ساخته شده اند و هم از آیین های فرادستان.
در میان متون ادبی، کنایه ها برآمده از داستان های مثنوی پیشتازند و در میان داستان های انبیا کنایه های مربوط به داوود، سلیمان و یوسف. در میان کنایه های که از ویژگی حیوانات پدید آمده اند، کنایه ها مربوط به خر، سگ و بز پربسامدترین اند.
چهرۀ روایی رهبران عوام فریب دو قیام در ایران و روسیه
فاطمه نظری، مریم موسوی، آرمینه مارتیروسیان
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) Ph.D آموزش زبان روسی از مسکو
(دانشجوی Ph.D دانشگاه کاشان) مدرس زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی
استادیار دانشگاه روسی-ارمنی (اسلاونی)، ایروان، ارمنستان
محمود تارابی رهبر قیام مردم بخارا علیه مغول در سال1338 میلادی/ 636 هجری مطابق روایت جوینی بوده است. جوینی اورا از اوباش و رندان می داند و از او چهره ای عوام فریب ترسیم می کند که با مکاری توانسته است تعدادی از مردم و حتی خواصی همچون شیخ شمس الدین محبوبی را با خویشتن همراه سازد. در روایت جوینی اصل قیام علیه مغول که امری مردمی است تحت الشعاع حیله ورزی و دجالی محمود تارابی که خود را منجی آخر الزمان هم دانسته است قرار گرفته است.
درزمان کاترین کبیر در سال1773میلادی پوگاچف در ایالت آرنبورگ روسیه ظاهر شد. "ظهور شیادان در روسیه امری نادر به شمار نمی رفت، تاریخ پر آشوب آن سرزمین تزار های کاذبی را به عرصه آورده بود ...پوگاچوف در 1773، اینجا در ایالت آرینبورگ توی دهکده یائیک ظاهر شد. ادعا کرد تزار پتر سوم است"(مسی، 1396:568)پوگاچف با داعیه ی آزادی روسیه و نجات مردم آنها را علیه امپراتیس به شورش واداشت پوشکین در رمان دختر سروان این روایت تاریخی را آورده است و او نیز چهره ای زشت و مردم فریب و جاهل از پوگاچف ترسیم میکند. در هردو روایت یک مرد شورشی مکار از سادگی مردم استفاده میکند و احساسات غلیان یافته مردم بدبخت و فقیر و ستم دیده را علیه حکومت رهبری می کند. این مقاله با توجه به اینکه هر دو موضوع تاریخی است اما نوع روایت ها ادبی است به بررسی هردو می پردازد تا نشان دهد دلایل بر آمدن جنبش های توده و نیز نحوه رهبری این جنبش های پراکنده و نتیجه هردو در دو تاریخ متفاوت و دو اقلیم مختلف و دو فرهنگ نابرابر چه همسانی هایی از نظر راویان نویسنده و اندیشمند ایرانی و روس داشته است.
پیشنهادی در ریشهشناسی نام ابهر
نادره نفیسی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
ريشهشناسي «جاينامها» و نام مکان ها كاري است آسان و دشوار؛ آسان است هنگامي كه روشن باشد كه نام جاي و مكان از كجا آمده است و به چه زباني و زماني بازميگردد؛ دشوار است هنگامي كه ندانيم چنين نامي را چه كساني و چگونه و از چه زباني بر آن نهادهاند. در سدهای که گذشت به سبب رشد روز افزون زندگی صنعتی و گسترش ابزارهای ارتباطی، زبان ها و گویش های بسیاری رو به نابودی رفت. از میان رفتن زبان و گویش هر قوم از میان رفتن فرهنگ آنان خواهد بود زیرا زبان ابزاری برای بیان دانش، تاریخ و جهانبینی مردمان است و هر زبان نمایانگر گونه ویژهای از تکامل توانایی مردمان برای برقراری ارتباط است. در این میان چنانکه از گذشتههای دور نیز دیده شده است، نام جایها و پدیدههای طبیعی چون دریاچهها، رودها و کوهها، اگر کشورها دستخوش تازش ها و انقلاب ها قرار نگیرند دیرتر دگرگونی می یابند. بنابراین کوشش در ثبت و نگاهداری جاینامها کوششی است برای ثبت شناسنامه و فرهنگ بومی مردمان. آذربایجان از جایهایی است که به سبب تاخت و تاز اقوام ترک، از نگاه زبانی تأثیر فراوان پذیرفته است اما جاینامهای بسیاری در این منطقه مادنشین هنوز ریخت کهن خود را نگاه داشتهاند. شهر «ابهر» ، يا به قول ساكنان آذريزبان آن «ابهرچاي» در استان زنجان یکی از این نامهاست. در اين گفتار، كوشش بر آن است كه به معناي نام ابهر پی ببریم.
مؤلفههای فرهنگی مشترک میان ایران و قفقاز
الیاس نورایی، آغاماه حیدری
دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
واژهی «فرهنگ»کاربردی کهن در ایران باستان به ویژه در زبان پهلوی داشتهاست. معنای امروزی آن عبارت است از:تلفیق تمدن، هنر، مذهب، قانون، اخلاقیات، آداب و رسوم و هر گونه توانایی و عاداتی که بشر از تعاملات در جامعه کسب میکند.قفقاز که پاره ای از ایران باستان است، به این دلیل که دروازهی ورود آریاییها به فلات ایران بودهاست، پیشنهی فرهنگی آن با ایران دارای گرهخوردگی عمیقی است که با ادلّهی موثقی انکار ناشدنی است. جنبههای فرهنگی و تمدنی این دو خطّه از قدیم الایام با هم عجین بودهاست، حتّی زمانی قسمتهایی از قفقاز تحت تأثیر ایران قرار گرفته بود. تجلّی اشتراکات فرهنگی تمدن بزرگ ایران در قفقاز به حدّی است که در اکثر مناطق قفقاز نمود وافری از ادبیات، مذهب، تاریخ، زبان و میراث فرهنگی مشترکی فیمابین رؤیت میگردد. بهقطع یقین در جهان کمتر دیده میشود که دو قوم تا این حد از اشتراکات و ارتباطات تنگاتنگ و صمیمی برخوردار باشند. هدف پژوهش :این اشتراکات فرهنگی ریشه دار، عامل مهمّی در گسترش و تقویت روابط اقتصادی ایران و قفقاز است که با شناسایی و صیانت آن در جهت ارتقای سطح فرهنگی واقتدار هر دو کشور میتوان بهره گرفت. این مفاهیم زمانی بها مییابد که با درونی کردن این ارزشها آن را حفظ و استحکام بخشید. وجود زیربناهای فرهنگی و آموزشی و میراث های فرهنگی، خود پلی برای دستیابی به ظرفیت های اقتصادی بین این دو کشورمیباشد. نگارنده در این مقاله نظر دارد با روش توصیفی، تحلیلی به شناسایی مؤلفههای فرهنگی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و ایالت قفقاز از قبیل:زبان، مذهب، تاریخ، هنر، ادبیات و میراث فرهنگی بپردازد.
جایگاه فرهنگی و اجتماعی زنان عصر قاجار از منظر سیاحان انگلیسی عصر قاجار
اکرم ولی زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه گیلان
با وجود این که جامعه ایران در عصر قاجار به جهت آشنایی با مظاهر مدرنیته اندک اندک در حال پوست اندازی بود، اما برخی از لایه های فرهنگی جامعه ایران نظیر زنان مدت ها به دور از تحولات فکری و اجتماعی ایرانِ در حال تغییر بودند. با این وجود گسترش نوگرایی از اواخر عصر ناصری زنان طبقات مرفه که با علم و دانش نوین آگاه بودند، پس از آشنایی با نقش و کارکرد اجتماعی و فرهنگی زنان اروپایی وارد مشارکت های اجتماعی شدند. این تحولات از نگاه جهانگردان،ماموران و سفرنامه نویسان انگلیسی دورنماند. آنها به دقت کارکرد و نقش زنان ایلی،روستایی،شهری و زنان طبقه مرفه اجتماعی را در آثارشان بازتاب داده اند و تحلیل آنان نشان می دهد که اساسا پیکره استبدادی جامعه ایران مانع تحول اجتماعی مردان و زنان ایرانی است. زیرا جامعه ایرانِ عصر قاجار نه تنها برای مردان بلکه برای زنان نیز هیچ گونه حق و حقوقی قائل نبود. در نتیجه تنها در مراسم های آیینی و گردهمآیی های نظیر آن تنها مشارکت اجتماعی مردم این دوره به ویژه زنان به شمار می رفت. با این حال به جهت این که شرایط اجتماعی زنان نسبت به مردان نامناسب بود، در مراسم های عزاداری، و برخی آیینی های مذهبی زنانه، زنان می توانستند محدودیت ها به کنار نهاده و آزادنه در آن مشارکت نمایند. نگرش سفرنامه نویسان انگلیسی نسبت به زنان عصر قاجار دیدگاه مطلوبی نیست. آنان زنان عصر قاجار را به صورت موجوداتی بی اطلاع و ناآگاه از امور اجتماعی و فرهنگی یاد می کنند که تنها دغدغه فکری شان حول مسائل سنتی جامعه ایران بود.به نظر می رسد فقر فرهنگی زنان،استبداد سیاسی و اجتماعی عصر قاجار موجب تداوم فضای بسته فکری زنان عصر قاجار بوده است و این مساله موجب یکی از دلایل کم تحرکی زنان از نگاه سفرنامه نویسان عصر قاجار بوده است. روش پژوهش در مقاله حاضر با استفاده از روش تاریخی و به شیوه مطالعات کتابخانه ای انجام می پذیرد.
بررسی بسترهای فرهنگی رابطه گیلان و کشورهای حاشیه خزر و حوزه قفقاز
مجید یاسوری
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
استان گیلان در ادوار مختلف تاریخی بنا به موقعیت جغرافیایی خود محل تلاقی و آمیختگی فرهنگهای مختلف بوده و بهعنوان دروازه ورودی ایران به اروپا مطرح بوده است. بر اساس گزارش ها، پیشینه قوی تاریخی و فرهنگی استان از جمله؛ وجود فرهنگ و پیشینه تاریخی قوی درزمینۀ فرهنگمداري نسبي در كليّت جامعه گيلاني و روابط تاریخی فرهنگی آن به کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین وجود شناسه "گیلان بهعنوان دروازه ورود فرهنگی به کشورهای حاشیه خزر" در شکل گیری ارتباطات فرهنگی و تاریخی نقش اساسی داشته و دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است. وجود ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و تاریخی و توسعه زیرساختهای ارتباطی زمینه های مناسبی را در توسعه روابط بین گیلان و کشورهای حاشیه خزر و حوزه قفقاز فراهم ساخته است. توسعه ارتباطات به راهکارهایی نیاز دارد؛ برگزاری جشنواره های دائمی در زمینه های فیلم، موسیقی و ... با مضامین ویژگیهای مشترک بومی- فرهنگی، انجام فعالیتهای فرهنگی و هنری مشترک، بهره گیری از اشتراکات فرهنگی و توسعه دیپلماسی فرهنگی، اتصال خط ریلی منطقه، توسعه گردشگری فرهنگی برخی از مهمترین راهکارهای توسعه ارتباطات فرهنگی بین کشورهای منطقه و استان گیلان خواهد بود.